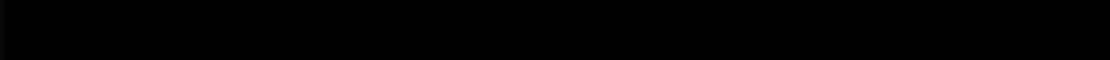РАССКАЗЫ
«Жизнь слишком серьёзная штука,
чтобы к ней относиться без чувства юмора»
О.Уайльд
ПЛОТНИКИ
Только летом и только в деревне приходит вечерами к людям такая грусть, от которой хочется плакать. Даже умереть хочется. Но и жить, конечно, хочется тоже. Хочется поделиться с кем-нибудь своими мыслями, раскрыть душу, пооткровенничать. Эх, да что там!..
В один из таких вечеров, когда июльская жара начала спадать, на свежеошкуренных брёвнах у невысокого сруба сидели трое. У ног каждого стояли плотницкие ящики с собранным в них инструментом. Курили. Разговаривали.
- Вот дай мне сейчас миллион, - говорил один, лет сорока, с прокопченным на солнце лицом, затягиваясь «беломориной», - скажи: езжай в город, - не поеду!
- А чего не поедешь-то? – с лукавой усмешкой спрашивал его молодой парень в клетчатой рубашке. – С миллионом-то?
- А на кой он мне хрен, твой миллион! – беззлобно отвечал копчёный. – Чего я на него покупать-то буду? Корову, что ли? Или верблюда? – он засмеялся. – А за квартиру да еду заплатил и – что? А на маршрутках этих дурацких сколько проездишь?
- Машину купишь! – не унимался молодой. – «Тойоту»!
- Ну, правильно! – в тон ему ответил сорокалетний. – Куплю «Тойоту» ездить по болоту. Потом куплю «Мерседес» и поеду на нём в лес!..
- Петрович, да ты у нас поэт! – засмеялся молодой, показывая белые ровные зубы.
- Я-то поэт, а вот ты сейчас у меня по ушам схлопочешь! – потерял терпение Петрович, оглядываясь вокруг в поисках какого-нибудь предмета.
– Сейчас я тебе, звонарю, выпишу…
- Да не заводитесь вы, ну вас! – прикрикнул на них третий, пожилой мужчина, так же пробитый солнцем, в выцветшей до белизны армейской рубахе и галифе старого образца. – Нашли об чём языки трепать!
Помолчали. Вставать не хотелось.
Молодой искоса посмотрел на товарищей.
- Дядь Лёш, а об чем сейчас говорить-то? – обратился он к пожилому. – О политике, что ли? Так уж по телику до отрыжки надоела. Президенты всякие, бизнесмены… Я думал, выберем этих… как их… депутатов-то, так и жить станет лучше. Ну, выбрали! Ну, и чего?..
- Степаныч, дай-ка мне шерхебель, я ему объясню – чего! – копчёный протянул руку к ящику с инструментами.
- Сам ты шерхебель! – обиделся молодой. – Чуть чего, сразу – шерхебель!.. Деревня и есть деревня!
- А ты городской?
- Городской не городской, а лучше тебя понимаю в этом!
- В чём?
- В этом!
- Ну в чём в этом-то?
- В жизни! – с вызовом ответил молодой и обидчиво отвернулся.
Копчёный некоторое время с удивлением смотрел на него, потом сказал, обращаясь к пожилому:
- Ты понял, Степаныч! Он, сопля зелёная, больше нас с тобой в жизни понимает!.. Нет, пожалуй, я ему всё-таки выпишу!
- А я не сказал, что с дядей Лёшей! – запальчиво возразил молодой. – Я только тебя имел в виду!..
Копчёный резко встал и схватил молодого за воротник рубахи.
- От-ставить! – неожиданно звонким голосом выкрикнул пожилой. – Всем сесть!
Копчёный нехотя разжал руку и сел на бревно, продолжая зло смотреть на молодого.
Молча закурили. Копчёный с пожилым – «Беломор», молодой – сигарету с фильтром.
- Во, и курит-то, как баба! – съехидничал копчёный, пуская дым в сторону молодого.
- Пошёл ты! – отреагировал тот.
Помолчали.
- Живал я в городах-то! – неожиданно произнёс пожилой. – Было дело!
Двое с интересом поглядели на него.
- Это когда же? – спросил копчёный. – В молодости, что ли?
- В молодости, Миша, в молодости! – с грустью сказал пожилой и затушил папиросу. – Ладно, потом расскажу!..
- Дядь Лёш! – взмолился молодой. – Не надо потом! Нельзя потом! Сейчас расскажите! Ночь ведь не усну, вы меня знаете!
Пожилой ласково посмотрел на парня, хлопнул себя по коленям и примирительно сказал:
- Ладно! Доставай-ка, Миша, тогда ещё папироску! Расскажу я вам одну историю, чего с вами делать!
Снова все закурили.
- Было это, значит, году… дай бог памяти… в шестьдесят первом. При Никите ещё. Ну, Гагарин в том году в космос полетел… Ну вот! Направили, значит, меня служить в штаб округа. Не каждому старлею, едрёна корень, такая лафа выпадет, а мне пофартило. Правда, я тогда документы в академию имени Фрунзе уже подал. Карьера, в общем, корячилась мне капитальная…
На слове «карьера» копчёный хмыкнул и хитро покосился на рассказчика. Тот почувствовал недоверие, но продолжал говорить с той же спокойной интонацией, но теперь больше обращаясь к молодому.
- Штаб нашего округа располагался прямо в городе. Тут и склады, значит, и всё такое...
Он сделал паузу, как бы набираясь сил перед решающим шагом, смахнул пепел со своих линялых галифе и продолжал:
- И вот приходит однажды, значит, бумага из академии. Вызов, значит. Требуют прибыть на экзамены со всеми, значит, документами. А главное, едрёна корень, характеристику требуют…
Алексей Степанович коротко взглянул на копчёного, затушил папиросу и сказал:
- Миша, я ведь могу и не рассказывать!
- Дядь Лёш, - вскочил молодой, - плюньте на него! Он вообще никому не верит! Вы мне говорите!
Пожилой расправил белесые брови, улыбнулся в усы и продолжал:
- А характеристику эту, мать её в душу, надо было получать у нашего замполита… Сейчас-то, кажись, этих замполитов на попов поменяли. А раньше были. Ну вот, запер я склад, значит, и пошёл…
Сорокалетний издал булькающий звук, но Степаныч не удостоил его вниманием.
- Суббота была, как сейчас помню. Офицеры все по домам сидят. Кто с жёнами, кто чего делают. Ну, я и пошёл к замполиту домой. За характеристикой, значит. А замполит этот, едрёна корень, каждую субботу в баню с утра закатывался. Парильщик был, мать его, спасу нет! Ростом метра под два, морда вот с этот ящик. Гирями, помню, всё занимался… И жена у него - такая же баржа. Задница, наверное, с колесо от «белоруса» будет! Поговаривали, на передок слаба, да я что-то не верил…
- Не верил, пока не проверил! – хихикнул копчёный, но молодой так на него посмотрел, что он только рукой махнул: - Мели, Емеля!
- Ну, вот, - продолжал Степаныч, обращаясь к молодому, - прихожу я, значит, к замполиту. Звоню в дверь. Открывает жена. Улыбается, как родному, и говорит: «Вы, наверное, к Косте? Проходите, пожалуйста. Он скоро придёт. В баню, знаете ли, пошёл!» И смотрит на меня такими глазами, словно проглотить хочет. Ну, я протиснулся между её грудями и стенкой, вошёл. Стою себе тихо. А она: «Да вы садитесь, не стесняйтесь! Сейчас мы с вами чай будем пить!». Ни хрена себе, думаю. А она поёт-заливается: «Нет, лучше что-нибудь покрепче! Ведь вы не откажетесь со мной выпить что-нибудь покрепче?». Ну, думаю, влип! А как тут откажешься! Да и вообще я тогда не умел отказывать. Особенно женщинам. Молодой был!..
Алексей Степанович покосился на ухмыляющегося копчёного, взял из услужливо протянутой молодым пачки сигарету, и продолжил рассказ:
- Поставила, значит, эта корова бутылку на стол, а сама всё титьками у меня перед носом крутит. «Я, - говорит, - свободная женщина свободной страны!». Ну, сидим, выпиваем. Нормально так, значит, сидим. Вдруг она и говорит: «А почему бы нам не потанцевать?». И пластинку ставит с каким-то танго. А я к тому времени подзабалдел малость, смелость чувствую. Ну, обнял этот мясокомбинат, танцуем. А она положила мне на плечо голову и поёт чисто канарейка: «Вы так прекрасно водите, что я готова с вами танцевать вечность!». А сама бочком-бочком, да к дивану…
- Вот это ближе к делу! – поднял указательный палец копчёный. – А то – академия, характеристика!
Пропустив мимо ушей реплику Михаила, Алексей Степанович продолжал:
- Не знаю, как уж всё и получилось, а… получилось, в общем! Ох, и знойная же баба! В жизни таких не встречал!
- А Нюрка-то твоя хуже, что ли? – опять встрял копчёный. – Пятерых-то тебе нарожала?
- Нюра женщина нормальная, - внешне спокойно ответил Степаныч, а вот ты… Ладно! Лежим, значит, с ней на диване, милуемся. И вдруг я слышу: ключом в замок тычут. Упал тут у меня… это… интерес не только к любви, но и к жизни… А эта вспорхнула, как бабочка, халат одёрнула и шипит мне: «Лезь в шкаф, я задержу его!». Ну, чего делать?! Схватил я брюки, рубашку с кителем и – мухой в шкаф. Хорошо, что трусы успел надеть…
- Чьи? – давясь смехом, промычал копчёный. – Еённые, что ли?
- В еённые нас троих можно бы спрятать, а я – свои!.. Ну, сижу я, едрёна корень, в шкафу среди майорских шинелей - ни жив, ни мёртв. И слышу, значит: «С лёгким паром, дорогой! А что так рано? Случилось что?». «Да нет, - гудит замполит, - просто мне сегодня в наряд заступать!». И проходит он, слышу, в комнату, на диван садится. А она, стерва, ласково так: «Ах ты мой маленький, ах ты мой птенчик!». И слышу, кладёт «птенчика» на диван. Ну, думаю, отвлекает. Значит, думаю, чесать надо… А они разложились на диване и вот себе кувыркаются! Меня такое зло взяло, что я… чихнул, короче! В общем, как в анекдоте, а то и похлеще!
- Степаныч, а в трусы-то – не того, не наделал? – хохотал копчёный, хлопая себя по коленкам.
- Не наделал, - спокойно ответил Алексей Степанович. – Потому что злость взяла!.. А этот подошёл к шкафу, открыл дверцу и спрашивает: «Ты зачем тут?». Я, помню, как увидел перед собой этого слона, так и похолодел весь. Прикрылся штанами и говорю: «Мне бы характеристику!». Он внимательно так посмотрел на меня, потом на жену, и говорит: «Это можно!». И берёт меня, паразит, одной рукой за волосы, другой за трусы… больно так… поставил на подоконник и говорит: «Прыгай!»…
Алексей Степанович замолчал и протянул руку в сторону упавшего от смеха копчёного:
- Достань-ка «беломоринку»-то, мерин!
- Дядь Лёш, а дальше-то чего? – тоже смеясь, спросил молодой.
- Дальше? – Алексей Степанович с наслаждением затянулся папиросой. – А дальше – всё! Финиш!.. Третий этаж, как ни говори!..
Быстро темнело. В окнах гас свет. Деревня затихала. Люди готовились ко сну.
- Пожил я в городах-то, ребята, пожил! Так-то! – задумчиво проговорил Алексей Степанович, глядя на полыхающее закатное небо. – Хороший денёк завтра будет!..
БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ
Степан Боровков любил писать стихи. Читать их он не любил, а писать просто обожал. И получалось это у него, как он сам думал, просто замечательно.
Свои произведения Степан ни в газеты, ни в журналы не посылал, хотя был уверен, что там бы их напечатали непременно. На вопрос жены, для чего он «переводит бумагу», поднимал вверх указательный палец и многозначительно изрекал:
- Имеющий уши, да услышит!
- О, Господи! – обречённо вздыхала жена и уходила к соседке.
А писал Степан Боровков – о деревенской жизни, о коровах и лошадях, о заливных лугах и перелесках, о родниках и речках, о живности всякой разной. То есть о том, что хорошо знал и любил, поскольку жил в деревне и работал пастухом. С ранней весны и до «белых мух» сочинительствовал на природе, а пожухнет трава – дома, в тепле да уюте. Благодать!
И не было на свете, казалось, такой силы, которая смогла бы оторвать его от любимого занятия. Жена, правда, хоть и махнула рукой, но иногда в сердцах жаловалась соседям: «Лучше бы уж пил, а то – что есть, что нет мужика! Одно слово – писатель! И откуда это у него? Эх, беда!».
Своей «болдинской осенью» Степан называл время, когда природа освобождала его от выполнения «функциональных обязанностей», как любил выражаться местный зоотехник. Хоть и невелика забота – стадо пасти, а всё равно отвлекает, мешает сосредотачиваться в поисках слова или поэтического образа. А тут полгода, считай, свободен, как ветер. Пиши себе, сколько влезет. Поэтому ни о какой другой профессии Степан Боровков и слышать не хотел.
Однажды зимой вопреки трудовому договору направили было пастуха убирать навоз за теми же коровами, но это вызвало у него такой протест и возмущение, что направители отступились.
- Чёрт с тобой! – сказал бригадир. – Иди, пиши свои стихи!
И Степан писал. Писал много, иногда по нескольку стихотворений в день. Да и редкая ночь проходила вхолостую – с десяток-то строчек почти всегда оставались на бумаге и ждали утренней доработки.
Со временем его поэтический взгляд стал несколько мрачнее, язык жёстче, темы острее.
К современным поэтам Степан относился ревниво. Не то чтобы завидовал, просто они не внушали ему доверия. Когда слышал по радио или видел в газете стихотворный текст, губы его кривились, и он ядовито выговаривал:
- Ну-ну, валяй-валяй!..
Степан с годами почему-то всё больше становился уверен, что рано или поздно он заявит о себе в полный голос и на всю страну, его заметят, услышат и издадут книгу в красивом переплёте. Книга непременно должна быть большой, солидной, а на обложке изображена его деревня и лошадь с жеребёнком. Само собой – фотография и предисловие: кто, мол, что и откуда…
Лет пятнадцать назад, когда народ валом повалил из деревни, Степана охватила тоска. Были периоды, когда недели две кряду не писал стихов. Какое-то злое безразличие навалилось на него, отвращение ко всему, апатия. Когда же чуть отпускало, он хватал свою тетрадку, убегал к дальним ригам и дня два не показывался никому на глаза. Выливал свою тоску в рифмованные строчки, и ему становилось легче. Он писал:
Запрокинулась в душу кручина,
И не ладятся что-то дела.
Молодой ещё, в общем, мужчина,
Но и этот бежит из села…
Жена Настя не всегда спокойно воспринимала литературные занятия мужа. Некоторое время после свадьбы она с интересом наблюдала за ним, и ей было даже весело. Но, видя, что «блажь» эта не проходит, начала тревожиться, а потом и сердиться. Заказала, было, даже зелье отворотное у старухи-повитухи из соседней деревни, да так за ним и не сходила. Только всё настойчивее просила мужа показаться доктору. Когда же поняла, что все хлопоты по излечению мужа напрасны, отступилась, сказав то же, что и бригадир.
Причиной крайнего возмущения для Степана были дачники. Они появились в деревне как-то сразу, внезапно. Степан сначала даже обрадовался приезду новых людей на блестящих машинах. Но когда увидел, как с грохотом и хохотом рушатся старые постройки и возводятся каменные заборы, а женщины в одних купальниках разгуливают по деревне, в один миг всё в нём перевернулось.
- Да что с тобой? – спрашивала жена, видя, как супруг места себе не находит. – Скажи толком.
- Что со мной, говоришь? – взвивался, словно ужаленный, Степан. – А ты разуй глаза-то! Ты иди, глянь на срамоту-то, иди…
Насте было жаль мужа, и в то же время смешно, отчего он ерепенился ещё больше:
- Да ведь это же конец всему! Это же… Ведь погубят же всё! Чего им тут надо? Да ничего не надо! Всё им тут чужое, и сами они чужие!.. Вон, титьками трясти – это они умеют, это им только давай!.. Неужели сама-то не видишь? Неужели вы все этого не видите? Караул кричать надо, а они… – размахивал руками Степан, обращаясь то к жене, то к воображаемому народу. Затем, если не было рядом детей, отпускал несколько крепких словечек и убегал куда глаза глядят.
Слова «дачники» или «приезжие» Степан не произносил. Он говорил – «эти».
- Эти-то, видела, нынче на двух «мерседесах» прикатили. Дармоеды!.. А ты знаешь, сколько такой крокодил сейчас стоит? Не знаешь? Так вот – ворьё! В городе наворовались, а здесь с жиру бесятся!.. Ты брюхо-то у этого видела? Дирижабль!.. Во, музыку завели, теперь всю ночь дубасить будут! Ну, банда!..
- Степан, отступился бы ты от них, - уговаривала Настя. – Нормальные же люди, как и все…
- Как и все?! – вскакивал Степан. – Нет, не как все! Все-то, вон, работают! А этим только пузо греть да песни орать!..
Особое негодование у Степана вызывали курящие женщины. Он всегда считал, что если женщина курит, то это пропащая женщина. Он сразу и решительно подводил черту: «Клейма ставить негде!». А здесь был целый ансамбль. Курили все, от мала до велика, – и мужчины, и женщины, и даже, как показалось Степану, дети.
Смотреть на это не хотелось. Хотелось уйти, убежать, уехать куда-нибудь далеко-далеко, чтобы потом вернуться и не найти в родной деревне этих дачников с их блестящими машинами, и чтобы всё было хорошо и радостно, как раньше.
Стихи сами собой ложились на бумагу.
Я опять возвращаюсь дорогой,
По которой ушёл год назад
От коровы своей однорогой
И голодных пугливых телят.
Корова у Степана действительно была, но двурогая, а в стихах он оставил ей один рог для пущей тоски и жалости.
Он перечитывал свои стихи, и слёзы сами собой катились из глаз.
Все три летних месяца, особенно по выходным дням, Степан вставал в шесть часов утра и угонял стадо на дальние выпасы. Он не хотел видеть, как просыпаются дачники, как они потягиваются, лениво перебрасываясь глупыми шутками, как готовят еду, курят и пьют пиво.
В лесу, когда стихали радостные аукания «этих», он доставал заветную тетрадочку и самозабвенно писал, изредка поглядывая за стадом.
Я иду, а навстречу мне прямо, -
Даже стыдно в стихах говорить, -
Незнакомая дама в панаме
И в купальнике: «Дай закурить!»
И другие вопросы похлеще
Эта женщина мне задаёт.
До какой же бессовестной вещи
Докатился приезжий народ!..
Говоря газетным языком, подобная конфронтация могла продолжаться неизвестно, сколько времени, если бы не случай. Вернее, два, последовавшие одно за другим и круто изменившие судьбу нашего героя. А произошло вот что.
В разгар лета, пригнав коров на дойку, Степан Боровков по давно заведённому правилу присел к своей любимой берёзе и стал ожидать того момента, когда деревенские женщины пойдет домой, благодаря его за заботу об их кормилицах и поилицах – Ласточках, Звёздочках да Забавах, о барашках да козочках.
Перекусив наскоро, Степан достал блокнот с набросками новых стихов и стал вчитываться в строчки, но вдруг понял, что засыпает. Это было так непривычно, что ему сначала подумалось – не умирает ли он. Он даже хотел позвать женщин, предупредить их, чтобы забирали свою скотину и шли домой. Но не успел и рта раскрыть, как под мелодичный звон упругих молочных струй о бока подойников погрузился в короткий, но глубокий и крепкий сон. И явился ему во сне архангел Михаил с каким-то предметом в руках.
Здесь следует сделать небольшое отступление. Дело в том, что Степан Боровков был атеистом. Не ярым и агрессивным, как некоторые, но в существование Бога и другой небесной силы не верил. Правда, сильные раскаты грома и сверкание молнии каждый раз заставляли его осенять себя крестным знаменем. А, переходя по льду речку Тоймину, он ещё и приговаривал: «Спаси и сохрани, Господи!». К священникам относился уважительно, без иронии, но и без видимого почтения. А видом старинных церквей и храмов мог любоваться часами. Стихов на эту тему у него было написано много.
Наверное, поэтому встреча с архангелом Михаилом его не очень удивила. А то, что это был именно этот посланец Всевышнего, а не какой-то другой, Степан не сомневался. Почему? Об этом он и сам не знал. Скорее всего, кто-то внушил, подсказал.
Архангел Михаил, как бы паря в воздухе, обратился к Степану Боровкову с вопросом:
- Чем отличается пастух от пастыря?
Степан понял, что надо немедленно дать ответ, да такой, чтобы не обидеть посланца, не показать свою безграмотность. Он уже начал было подбирать слова, но архангел Михаил опередил его:
- Знаю, что ты скажешь. Но это не так. Пастух и пастырь – одно и то же. Оба – заботники о тварях земных, оба врачуют души человеческие, даруют радость и несут свет. Главное и единственное их оружие – слово. Слово и есть Бог.
Степан хотел было блеснуть знанием Евангелия, где говорится о том, что «Слово было у Бога» и так далее, но архангел, шевельнув крыльями, вновь опередил его:
- Ты пастырь, а не агнец. Помни об этом. К тому же у тебя в руках слово, дарованное тебе отцом небесным. Распоряжайся им не по своему усмотрению, а по велению Господа нашего. Тогда найдёшь себя, тогда будешь нужен людям.
Степан сделал шаг навстречу к архангелу, чтобы поблагодарить его и передать свою благодарность Богу, и в этот же момент увидел, что в тонких пальцах рук своих тот держит книгу, на которой написано: «Степан Боровков. Избранное».
Было бы неверно сказать, что Степан испытал радость, восторг или какие-то другие чувства от того, что увидел свою книгу в руках архангела. Он это принял как данность. Потому что предполагал подобное, всю жизнь мечтал, думал об этом, верил в это.
Впрочем, во сне всякое может быть.
Когда Степан Боровков проснулся, он был удивлён тем, что мир вокруг него почти не изменился. Разве что женщины покинули стойбище да коровы улеглись. А солнце, небо, облака, лес, луг, поле – всё осталось на своих местах и в том же виде. Да и сам он, Степан Боровков, был таким же – с руками, ногами, головой. Таким же, но не таким. И прежним, вроде, но другим. Степан это понял, ощутил всем существом, душой в первую очередь. Он как бы приподнялся над землёй. Не воспарил, не оторвался от неё, а словно стал выше ростом, умнее, тоньше, смелее и увереннее.
И ещё понял Степан, что об этом никто не должен знать, никому рассказывать нельзя. Да и был ли он, сон-то, вообще? Может, просто привиделось?..
Нет, сон всё-таки был, и архангел Михаил с книжкой в руках тоже был! Иначе откуда же всё это, о чём и подумать страшно!
Домой Степан вернулся тихим, умиротворённым. Таким он оставался и на следующий день, и через день, и через неделю.
Жена заметила изменения в поведении мужа и была бесконечно рада. По душе ей было то, что Степан утром и вечером приветствовал жену, ласково смотрел на неё и что-то про себя нашёптывал, словно благодарил кого-то. Объяснить это она ничем не могла, но считала, что супруг начал стареть, умнеть и успокаиваться.
Сам же Степан знал, что отныне он должен вести себя так, чтобы не прогневить того, который всё видит, слышит, понимает, распоряжается твоей судьбой, твоей душой и разумом. У него у шах то и дело звучал тихий голос архангела Михаила, шелест его крыл, он видел свою книгу в его руках. Нет, он должен работать, не щадя себя, не жалея сил и времени. Работать над собой, над словом. Писать, в общем, иначе…
Второе событие, изменившее жизнь Степана Боровкова, случилось буквально через неделю. И оно, как спустя некоторое время понял Степан, было логическим продолжением первого. Более того, второго события без первого просто-напросто и не могло бы произойти. Это, как говорится, не ходи к гадалке. А случилось вот что.
Часу в шестом вечера сидел Степан на берегу реки под любимой своей берёзой и писал стихи. Рядом паслись коровы, привыкшие к тому, что их никто без надобности не тревожит, не перегоняет с места на место.
- Извините, не помешал? – внезапно за спиной пастуха, заставив его вздрогнуть, раздался приятный мужской баритон.
Поодаль стоял пожилой человек в модных затемнённых очках и с корзинкой в руке. – Посижу с вами, если позволите. Устал, знаете.
Степан сразу почувствовал интеллигентного человека. В этом смысле обмануть его было невозможно. Уж если «простите» да «позвольте», точно – интеллигент! И хотя Степан не очень любил всякие заковыристые словечки, уважение к образованным людям испытывал.
- А чего ж, садитесь! – ответил он, закрывая тетрадь. – Места хватит.
- Прошу меня извинить, - помолчав с минуту, продолжал незнакомец, - я уже несколько раз замечал, как вы что-то пишите… Нет-нет, разумеется, вы можете не говорить… Но меня это интересует как человека в некотором роде, знаете ли, творческого, связанного с литературой… Уж не стихи ли?
Степан почувствовал в словах очкарика искренний интерес и просто ответил:
- Да пишу вот… Вирши, как говорится.
Незнакомец участливо улыбнулся:
- А нельзя ли взглянуть? Дело в том, что ваш покорный слуга много лет ничем другим не занимается, как редактирует газету. Грешен, и сам иногда рифмоплётствую. Правда, времени для этого всегда было мало, а сейчас особенно… Ну, так как?
Степан вдруг ощутил, что не испытывает к этому дачнику никакой неприязни. Наоборот, ему приятно вот так сидеть и разговаривать с «этим», который смотрит прямо в глаза и говорит просто и ясно.
Степан протянул ему тетрадку…
Когда возвращались домой, Степан говорил:
- Да ведь я понимаю, Алексей Константинович, что читать надо больше, учиться. Да некогда ведь. И поздно уж, наверное. Но ведь нынче-то что пишут? Ведь почитаешь – ужас! Не пойми чего пишут! Мне иногда кажется, что после Некрасова хороших поэтов у нас вообще не было. Ну, Есенин разве…
За ужином Настя спросила, с тревогой глядя на притихшего мужа:
- Ты чего такой сегодня, Сень? Неможется, что ли?
Степан поднял на жену грустные глаза:
- Всё хорошо, Нестенька. Всё очень хорошо!
Вскоре стало всем ясно, что характер пастуха Степана Боровкова резко изменился в лучшую сторону. Деревенские жители, особенно дачники, диву давались, что могло произойти с человеком, к которому ещё вчера подойти было страшно, - обязательно лишит настроения. Люди, недавно сторонившиеся его, теперь с радостью шли навстречу, зная, что пастух непременно порадует их добрым приветливым словом, стихотворной шуткой. Теперь он, прогоняя стадо мимо дачных домов, вешал на плечо кнут, приподнимал за козырёк кепку и радостно восклицал:
- Доброго здоровьичка! Денёк-то, денёк-то какой нынче, а!..
Улыбка не сходила с лица Степана.
В один прекрасный день с напускным равнодушием, но весь будто светясь изнутри, он сказал жене:
- Константиныч-то, слышь, отобрал кое-что из моих ранних. Обещал напечатать. Ну, мать, теперь держись!..
Долгожданные мир и покой вернулись в семью Боровковых. Теперь, похоже, навсегда.
БАБНИК
Эх, лапти мои, лапоточки мои,
Приходи ко мне, мой милый,
Ставить точки над «и»!
(Частушка)
Жили в деревне Каликино два друга – Миша Громов и Валерка Шестаков. Дома их были рядом, учились в одной школе, даже в армии служили в одном полку. Валерка, правда, вернулся на «гражданку» младшим сержантом, а Миша – рядовым.
Деревенские диву давались, как могли сдружиться эти, столь непохожие друг на друга парни. Валерка – высокий, черноволосый, с крупными карими глазами и крутым румянцем на смуглых щеках, был неисправимым озорником и неунывающим балагуром. Девчонки и молодухи сплошь теряли от него головы. Словно подтверждая репутацию, он любил напевать: «В любви надо действовать смело, вопросы решать самому, и это серьёзное дело нельзя доверять никому».
Совершенно противоположную картину представлял собой Миша Громов. Среднего роста, худощавый, желтоволосый, он, в основном, молчал, опустив голубые очи долу. С детства Миша был страстным книгочеем. Не было для него большей радости, чем уединиться с какой-нибудь новой книжкой в укромном уголке и представлять себя то благородным разбойником, освободителем крестьян, то капитаном судна, застрявшего во льдах. При женщинах он жутко смущался и до поры до времени обходил их стороной.
Но случилось так, что Миша без памяти влюбился в Лизу Завьялову из соседней деревни Вокшары. Лиза полтора года как выгнала своего муженька-пьяницу и теперь проживала одна-одинёшенька, споро управляясь со своим немалым подворьем. Хороша была Лиза до такой степени, что трезвому мужику мимо неё пройти не было никакой возможности, не залюбовавшись.
Высока, стройна, полногруда, с ясными глазами и заразительным смехом, она в самое сердце поразила скромного и застенчивого Мишу Громова. И до того тяжек показался ему этот крест, что хоть в омут головой. Часа, минуты не было, чтобы он не думал о любимой женщине.
И подойти бы ему к Лизе, обмолвиться словечком, распахнуть перед ней бездонную синеву своих глаз. Да хоть до дому бы проводить, как это часто делал с другими его закадычный дружок. Улыбнуться бы молодой женщине, рассказать о прочитанной книге, бросить майским вечером в её распахнутое окно букет сирени… Эх, Миша, Миша!
И всё же – то ли весна сделала своё дело, то ли муку сердечную переносить стало невмочь, но сподобился Михаил на решительный шаг.
В Вокшарах, где жила Лиза, был клуб, куда молодёжь два раза в неделю ходила в кино и на танцы.
В один прекрасный вечер, когда друзья, посмотрев кино, возвращались в своё Каликино, Валерка сказал, показывая на Лизины окна:
- Смотри-ка, у Лизаветы-то свет горит. Не спит красавица. Может, зайдём?
Миша весь залился краской, чего нельзя было заметить в сумерках, и сказал хриплым от волнения голосом:
- Валер, ты… вот что… зайди один. Скажи, чтобы она… это… вышла, а? А я здесь подожду. Ладно?
- Ну, какой вопрос! – весело отозвался Валерка, хлопнув друга по плечу. – Сейчас оформим, всё будет аб гемахт! Жди!
Он, словно дух, исчез в дверях Лизиного дома, а Миша стал нервно ходить вдоль палисадника, не отрывая взгляда от ярко освещённых окон.
Прошло минут десять, прежде чем он успокоился и прекратил бестолковую беготню взад-вперёд. Силуэты Валерки и Лизы, чётко отражённые на занавеске, вдруг встали и слились в один. Это длилось около минуты. «На ухо ей, что ли, чего шепчет?» - подумал Миша, вглядываясь в экран занавески.
Тем временем силуэты Валерки и Зины разошлись и вновь приняли сидячее положение. По отдельным движениям Миша понял, что его товарищ и Лиза стали пить чай. «Тоже мне – «сейчас оформим»! – мысленно передразнил приятеля Миша. – Всего и делов-то – сказать, чтобы вышла, а он… Оформитель!».
Силуэты вновь поднялись и вновь соединились. «И чего шептаться, когда всё можно сказать вслух!» - с лёгкой досадой подумал Миша.
Внезапно свет в окнах погас, и на Мишу обрушилась тишина, нарушаемая лишь тяжкими вздохами коровы на Лизином дворе. «Ну, слава богу!» - подумал Миша, подходя к калитке палисадника для встречи друга и предмета своей тайной любви. Но из дома никто не выходил. Вскоре прежнее волнение вновь стало овладевать Михаилом.
Минут через пятнадцать, устав мотаться вдоль палисадника, Миша стал анализировать ситуацию. Привычно оправдывая действия друга, он думал так: «Видимо, не уговорил. А поскольку разговаривали долго, почти час, он подумал, что я ушёл, а сам рванул домой через двор да огородами».
Коровьи вздохи, между тем, стали чаще и ритмичнее.
«Почему всё-таки она не вышла? – продолжал размышлять Миша. – Не поверила? Или Валерка не так уговаривал?.. Да нет, Валерка, кого хочешь, уговорит!».
Вскоре коровьи вздохи, перешедшие было в лёгкие постанывания, прекратились. До Мишиных ушей донёсся звук, похожий на чмоканье губ. «Надо же, если бы не знать, что корова, можно бы подумать…». Миша усилием воли оборвал продолжение мысли и присел на лавочку, прислонившись спиной к рейкам палисадника. Сон быстро овладел молодым организмом, врачуя его от душевных терзаний.
Разбудил Мишу своей утренней песней красавец-петух на Лизином дворе. Его дружно поддержали пернатые соседи, и вскоре вся деревня наполнилась петушиным многоголосьем.
Посмотрев на часы, Миша встал, потянулся, посмотрел голубыми глазами в утреннее, безоблачное небо и зашагал к своей деревне.
Он шёл по родной улице, когда на требовательные похлопывания пастушьего кнута из домов стали выгонять скотину. Мишина мать, увидев сына, засеменила ему навстречу. Шагов за пять она подняла хворостину, которой только что охаживала корову, и сердитой скороговоркой стала выговаривать сыну свои материнские упрёки.
- Ты чего, ты чего, мам! – попятился Михаил, закрываясь от неминучих ударов.
- Я тебе дам «чего»! – высоко заголосила Серафима. – Я тебе дам «чего»! Замамкал! О матери вспомнил, стервец! Где, говори, шлялся! Говори, зимогор!
Она вдруг остановилась, бросила хворостину и запричитала:
- Всю-то ночь не спала-а! Всю-то ночь думала-а! Думала, убили где-е!..
Соседи, сложив ладони козырьком, с интересом смотрели на происходящее. Миша подошёл к матери, обнял её за плечи:
- Ну, мам, ну чего ты!..
- Бабник! – Серафима дёрнула плечами и ещё громче воскликнула: - Бабник! Это в отца, что ли, бабник-то такой, а! Сил моих нету-у!..
Миша увёл плачущую мать в дом.
Соседи, постояв ещё немного, пошли хлопотать по хозяйству. Деревня проснулась и позвала людей к обычным своим заботам.
А Мишу Громова так до старости и звали Бабником, хотя он ни разу не изменил своей жене Валентине, нарожавшей ему шестерых голубоглазых, как летнее небо, и желтоволосых, как спелая рожь за деревней, мальчиков и девочек.
НЕЗЕМНАЯ ЖЕНЩИНА
Во время командировок могут происходить самые невероятные истории, самые неожиданные встречи. В этом Николай Григорьевич Пичуев лишний раз убедился, услышав рассказ своего товарища по работе Чернухина Петра Ивановича.
С Чернухиным в командировке приключилась прямо-таки фантастическая история: его обокрали. Нет, фантастика не в том, что обокрали, - тут как раз сплошная реальность, - а в том, что этот немолодой, лысый, толстый человек, отец троих детей… влюбился. И в кого бы вы думали? В девчонку! В ровесницу его старшей дочери! Правда, хороша была, чертовка, как с восхищением и грустью говорил сам Петр Иванович, что невозможно глаз отвесть. Всё при ней, как говорится. А уж ласкова…
В общем, завлекла в свои сети эта Светланочка, как звали плутовку, инженера-конструктора с тридцатилетним стажем, попила пару вечеров коньячку за его счёт, потанцевала обнажённая в его гостиничном номере, а потом обчистила до нитки и исчезла в неизвестном направлении. Испарилась, как дым, как утренний туман. А счастливый влюблённый, когда проснулся и всё понял, долго не мог прийти в себя. Ему было ужасно стыдно и противно. Ему было мучительно больно за бесцельно потраченное время и довольно приличную сумму денег. В какой-то момент ему даже захотелось покончить с собой.
- Ты знаешь, Коля, - говорил Пётр Иванович своему сослуживцу, - даже паспорт забрала, мерзавка. И папку с документами. А там и командировка, и деньги, и фотографии детей, и… Всё, в общем!
Пётр Иванович промокал лысину большим носовым платком и робко спрашивал, воровато озираясь:
- А паспорт-то ей зачем? Куда она с чужим-то паспортом? Ведь это же…
- Продаст, наверное, - сочувствовал товарищу Николай Григорьевич. – Сейчас всё продают… Да ты плюнь, забудь! А то, не дай бог, крыша поедет.
Со временем «несчастный случай с инженером Чернухиным», как было написано в приказе по заводу о вынесении ему выговора за утерю служебных документов, стал забываться. Доброе имя честного труженика было восстановлено. Да и мало ли что может произойти в дороге с приличным человеком!
Но эта, в общем-то, невесёлая история однажды вдруг вспомнилась Николаю Григорьевичу во время поездки в дальний северный город в командировку.
Был уже поздний вечер. Скорый поезд, покачивая вагоны, уверенно летел в августовскую мглу. Пичуев сидел в тёплом уютном купе и улыбался своим мыслям. Наверное, он даже слегка задремал.
Вдруг откуда-то сверху, как бы с небес, его ушей коснулся бархатный женский голос. Он, этот голос, был настолько красив, мягок и нежен, что Николай Григорьевич мог поклясться: такого на земле не бывает.
- Простите, бога ради, - обволакивающей тёплотой лился голос, - но я давно наблюдаю за вами. Вы так загадочно улыбаетесь, что для женского воображения это целая пытка. Очевидно, вспомнили что-то весёлое?
Николай Григорьевич открыл глаза и увидел перед собой женщину лет тридцати пяти в роскошной джинсовой куртке, в изящных роговых очках и совершенно потрясающей причёской. Она с приветливой улыбкой и, как ему показалось, нежностью смотрела на Пичуева. Её добрый и чистый взгляд, фигура, улыбка и божественный голос в один миг очаровали инженера-конструктора.
- Простите, что вы сказали? – встрепенулся он, не зная как сесть и куда деть руки.
- Вы почему-то всё время улыбаетесь, и меня просто разбирает любопытство, - повторила женщина. – Но если это секрет…, - она взяла в руки сумочку и перестала улыбаться.
- Нет-нет, что вы! – заторопился Николай Григорьевич. – Какие могут быть секреты!.. Так, случай один вспомнил, с моим приятелем...
- Весёлый случай? – с живейшим интересом спросила женщина.
- Да как вам сказать… - Пичуев почувствовал, что не может оторвать глаз от этой женщины. Ему почему-то вдруг стало жарко. – Случай больше смешной, чем весёлый.
Женщина медленно сняла очки, грациозно тряхнула головой и сказала так, что у Николая Григорьевича перехватило дыхание:
- А вы за-га-дочный человек!
Пичуев увидел перед собой невообразимой красоты глаза, большие и лучистые. Купейный полумрак не позволял понять, какого они цвета, но он был уверен, что они голубые. Как майское небо. Как озеро в лесу. Глаза, которые не могут лгать. Ему почудилось, что поезд вдруг оторвался от земли и летит куда-то вверх, к звёздному небу. Туда, где, должно быть, живёт эта фантастическая женщина.
Неизвестно, сколько времени мог бы продолжаться этот полёт, если бы в купе не заглянула проводница с предложением взять постели.
Галантно попросив спутницу не беспокоиться, Пичуев мигом принёс два комплекта простыней и наволочек. Кроме того, он попросил проводницу «организовать чаёк», что с готовностью и было сделано.
Затем, когда постели были собраны, Пичуев, несколько смущаясь, достал из портфеля хлеб, колбасу, два малосольных огурчика и большое яблоко – всё, что приготовила жена «на первое время» - и аккуратно разложил на столике. Немного поколебавшись, извлёк бутылку армянского коньяка, которую всегда брал с собой в командировку «для презентационных целей».
Женщина с интересом наблюдала за действиями Пичуева и, когда тот достал коньяк, с восхищением произнесла:
- О, да вы – гусар!
Николай Григорьевич покраснел, махнул рукой и сказал:
- Да какой я гусар! А вот вы… Так что же, за знакомство?
Через пять минут Пичуеву казалось, что Светлану Валерьевну, директора музыкальной школы – так представилась очаровательная попутчица – он знает очень и очень давно. Может быть, даже с детства.
Николай Григорьевич внезапно ощутил себя совершенно счастливым человеком. Он почувствовал прилив силы, молодой энергии и какой-то необыкновенной радости. Ему хотелось говорить, острить, озорничать и делать глупости.
- А вы, между прочим, не ответили на мой вопрос, - с игривой укоризною сказала Светлана Валерьевна, незаметно расстегнув две верхние пуговки на своей белоснежной блузке.
- Разве? – отозвался захмелевший инженер. – На какой же вопрос?
- На вопрос, чему вы столь загадочно улыбались?
- Когда?
- В начале нашей поездки.
- А-а! Так это мой друг… Вернее, он мне не друг, а так.
- «И не друг, и не враг, а так» - засмеявшись, бархатно пропела Светлана Валерьевна. – Так что же с ним стряслось?
- Ты понимаешь, Света…- Пичуев неожиданно для себя перешёл на «ты» и обрадовался этому. – Ты знаешь, Света… Её, кстати, тоже Светланой звали!
- Кого – её? – не поняла женщина.
- Ну, ту, которая… с которой… В общем, он в неё влюбился, а она его… Короче, оставила без средств, как говорится, к существованию, - он пьяно махнул рукой. – Да бог с ними, чего о них говорить, когда мы… здесь… Давай выпьем!
Пичуев неверной рукой разлил по стаканам коньяк.
- Давай выпьем… знаешь за что…
- Нет, погоди, - Светлана остановила его руку. – Так что ж тут весёлого, жестокий ты человек? История-то совсем даже и не смешная. Даже грустная получается история. Друга обокрали, а ему весело! Вот вы какие, мужчины! – с веселым прищуром сказала она, поднимая стакан. – Ладно, я предлагаю выпить…
- За любовь! – тряхнул головой Пичуев.
- Нет, за любовь у нас будет следующий тост, а сейчас… - Светлана Валерьевна наклонилась к уху Пичуева и прошептала: - А сейчас мы выпьем за дорогу жизни, где иногда происходят незабываемые встречи!
В груди у Николая Григорьевича проснулся такой вулкан нежных чувств к этой неземной женщине, что, выпив, он крепко поцеловал её прямо в губы.
Затем вылил в стаканы остатки коньяка, встал и торжественно произнёс:
- А теперь – за любовь!
- За любовь!..
Утром у купе вошла проводница, растолкала храпящего во всю мочь Пичуева и недовольно сказала:
- Вставайте, гражданин! Через двадцать минут прибываем.
Николай Григорьевич приподнял тяжёлую голову, протёр глаза и стал ошалело смотреть вокруг. Светланы в купе не было. Её матрац, аккуратно свёрнутый, лежал на верхней полке. На столике стояла пустая бутылка коньяка, в беспорядке лежала закуска.
- А где… эта? – хрипло спросил он проводницу, которая, сердито поглядывая на него, начала делать уборку.
- Женщина-то? Так она вышла.
- Куда… вышла?
- Как куда? Домой, наверное. Ночью и вышла. Часа в три…
Николай Григорьевич несколько минут сидел неподвижно, как истукан, затем с нехорошим чувством посмотрел в угол, где висела его одежда. На крючке болтались одни брюки. «Пиджак с плащом, наверное, в чемодан засунул спьяну», - подумал он и поднял крышку дивана.
- А где чемодан? – спросил он проводницу, чувствуя, как в ногах появляется неприятная дрожь и всё тело покрывается потом.
- Какой чемодан? – не поняла женщина.
- Чёрный… Большой… Кожаный…
- А, чёрный, большой… Так она с ним и вышла, женщина-то. Ещё сказала, чтобы вас до утра не будить. Совещание, мол, у вас…
- Какое совещание! – взвыл Николай Григорьевич и сел прямо на пол. В его похмельной голове закрутились картины вчерашнего застолья, разговоры, поцелуи…
Обхватив голову руками, он стонал, выговаривая одно лишь слово:
- Погиб… Погиб…
Проводница в тревоге засуетилась вокруг него, одновременно утешая и помогая ему одеться. Готовая сама заплакать, она говорила певучим голосом:
- Ах ты, господи! Да что же это такое! Да как же это можно, а!..
В отделении милиции Пичуев уверял молодого лейтенанта, что в стране орудует банда аферисток, что все называют себя Светланами, что все они умны и привлекательны. Даже красивы. На что лейтенант, пряча улыбку, отвечал:
- На дороге жизни надо остерегаться случайных знакомств, товарищ инженер! И пить надо меньше!..
Трудно не согласиться!
РЕВНИВЫЙ ЛЁХА
Ревность обрушилась на Лёху Галецкого внезапно и с такой силой, что буквально оглушила его. Раньше подобного чувства испытывать ему не приходилось. Он даже не верил, что оно вообще существует. Смеялся, когда слышал о том, будто бы один мужик из ревности хотел убить свою жену, второй – вены себе перерезал, третий – в петлю залез. «Дураки! – категорично и весело заявлял он. – Пить надо меньше, вот и весь разговор!»
Но когда он впервые сам испытал это выворачивающее душу чувство, от неожиданности растерялся и даже сначала подумал, что просто заболел.
В детстве у Лёхи было прозвище – Болт. Получил он его за пристрастие к рыбной ловле. Вернее, за то, что постоянно возился со всякими болтами и гайками, приспосабливая их в качестве грузил для своих бесчисленных удочек.
Болел он тогда часто, простывая у водоёмов, но быстро поправлялся и вновь убегал на речку удить рыбу или в лес за грибами. А захочет, так увяжется за пастухами и появится дома только вечером, еле волоча ноги и весь искусанный комарами. Но утром, чуть свет, снова на ногах – и ни усталости тебе, ни хвори…
Он и сейчас ждал, что через день-другой ему станет легче, отступит это пакостное состояние, уляжется боль в груди, перестанет саднить душу. Но легче не становилось, наоборот, становилось всё хуже.
- Да что же это, Господи? – воздымал к небу руки неверующий Лёха. – Да как же это она могла-то, Господи? Как же теперь жить-то?..
Причиной Лёхиной ревности явился тот факт, что он уличил жену в супружеской неверности. Вернее, это не было прямой и явной изменой, но оснований подозревать, как он считал, было предостаточно. «Дыма без огня не бывает!» - мысленно повторял Лёха, доводя себя до крайней степени волнения.
А дело, между тем, яйца выеденного не стоило. Просто однажды Лёха увидел в окно, как его жена Валентина шла под руку с киномехаником Ваней Косаревым. Они о чём-то весело разговаривали и смеялись. Иван всё время наклонялся к Валиному уху, поскольку был на две головы выше её, и что-то говорил.
Сначала Лёха не придал этому факту никакого значения. Чего особенного? Ну, прошлись, ну, посмеялись. И что?.. Но вдруг он почувствовал, как в его сердце вселилось какое-то беспокойство, стало тревожно на душе. И уже в следующий момент ему стало душно, больно, тоскливо и мрачно. В один миг всё вокруг потеряло очертания и смысл.
Конечно, если бы Лёха заставил себя подумать, проанализировать ситуацию, поговорить, наконец, с женой, все бы его подозрения развеялись, как дым. Но его замкнуло так, что он не мог не только анализировать, но и думать вообще. Заклинило, в общем, мужика.
Жена Валя не сразу заметила странность в поведении мужа. А когда заметила, спросила:
- Лёш, ты чего? Устал, что ли?
Лёха как будто ждал вопроса и резко ответил:
- Я-то не устал! С чего мне уставать? Я же с киномехаником под ручку не прогуливаюсь! Устал я, видите ли! Я-то не устал! А вот ты…
С этими словами он схватил кепку и, как ошпаренный, выскочил на улицу, громко хлопнув дверью.
Валентина с удивлением посмотрела ему вслед, пожала плечами, решив, что у мужика началась предзапойная лихорадка.
Но запой отменялся. К вечеру Лёха пришёл домой трезвый, как стёклышко. Не ответив жене на вопрос, где был, быстро разделся и лег на диван, игнорируя супружеское ложе.
Валя в недоумении постояла над ним, вздохнула и пошла дошивать пелёнки, - она была на четвёртом месяце беременности, и это занимало сейчас все её мысли.
В девять часов вечера Валя, как всегда, включила телевизор, чтобы посмотреть выпуск новостей.
- Это когда же покой-то мне будет, а? – надрывно выкрикнул Лёха, не поворачивая головы. – Мне завтра вставать чуть свет, а им хоть бы хны!
Валя вздрогнула и убавила громкость. А Лёха проскрипел нездоровым голосом:
- Можно бы,наверно, и без политики обойтись! Тоже мне – культура!
Последнее слово он произнёс с вызовом. Дело в том, что Валя в девичестве окончила культпросветучилище. Затем четыре года работала в районной библиотеке. Но после того, как вышла замуж за Лёху Галецкого, оставила эту работу и устроилась на картонажную фабрику учётчицей. Всё беготни меньше, не девчонка же.
Валя не любила вспоминать свою прежнюю работу, поскольку ещё во время ухаживания Лёха нередко донимал её разными издевательскими словечками, наиболее обидным из которых было «культура». Собственно, больше из-за этого и ушла с работы. Так уж её воспитали: не перечь мужу.
Со временем Лёха перестал доводить жену, и той стало казаться, что его неприязнь к «культуре» улеглась и скоро совсем забудется. Но вот сегодня… Да, он явно хотел обидеть! Но за что?..
Валя выключила телевизор, сложила недошитые пелёнки и легла спать. В обиде на мужа она уронила на подушку несколько горячих слезинок, но быстро успокоилась и погрузилась в сон.
Галецкому не спалось. Из головы не выходила отвратительная сцена прогулки его жены с киномехаником…
Под утро ему приснилось, как будто оба они, Ванька Косарев и Валентина пришли к нему, спящему, в комнату. И прямо у его кровати стали обниматься, смеяться и тыкать в него пальцами. Затем Ванька достал огромный гаечный ключ, какие бывают у железнодорожников, и с нехорошей улыбочкой сказал: «Я сейчас этому Болту все гайки закручу!», на что Валентина весело рассмеялась и… Лёха проснулся.
Минут пять он лежал, вспоминая омерзительный сон, затем встал и молча начал одеваться.
- Лёш, ты чего так рано? – хрипловатым со сна голосом спросила жена, поднося к глазам будильник. – Шести ещё нет, а тебе, вроде, к восьми?
- К восьми, к восьми! – буркнул Лёха. – Нам-то к восьми, а вот вам-то к каким?
- Лёш, ну чего ты опять? – с обидой спросила жена.
- А я не опять, не опять! – взвился Лёха, рывком натягивая брюки. – Гайки, значит, хотите мне закрутить? А пупки не развяжутся?
Валентина круглыми от удивления глазами смотрела на мужа.
- Не делай мне глазки-то, не надо! – Лёха зло забегал по комнате. – Я ведь не кино, чтобы на меня глазки-то выпучивать! В кино иди выпучивай глазки-то! С киномехаником!
Валентина впервые видела мужа в таком состоянии, и её охватило неподдельное беспокойство.
- Да ты, никак, заболел у меня! – сказала она, вставая с кровати. – Ну-ка, я лоб у тебя пощупаю…
- У киномеханика иди пощупай! – взвизгнул Лёха и отскочил в угол. – Там иди пощупай! Там и посмеётесь, и похихикаете! И гайки мне закрутите!..
Валя испуганно смотрела на мужа, не в силах что-либо понять. Затем села на кровать и решительно сказала:
- Так! Какие гайки? Какой киномеханик? Какие к чёрту…
- Не надо песен! – прервал её Лёха, театрально подняв руку. – Не надо! Дурака-то я вам из себя делать не позволю! Ишь ты, гайки они мне закрутят! Не выйдет!
Пнув в сердцах табуретку, он сорвал с оленьих рогов кепку и выскочил вон.
«Да что же это с ним такое? – недоумевала Валентина. – Уж не свихнулся ли? Трезвый, вроде… Или нашёл себе какую?».
Перебирая события последних дней, Валя вспомнила встречу со своим бывшим однокурсником по училищу Ваней Косаревым и всё поняла. «Да ведь он ревнует меня, дурачок!» - радостно подумала она и уткнулась запылавшим лицом в пелёнки и подгузники.
Тем временем Лёха мелкой рысью нёсся в неизвестном направлении, не замечая ничего вокруг. Вдруг он резко остановился и завертел головой, пытаясь определить, где находится. Нервное возбуждение его было столь сильным, что он испугался за своё здоровье. «Нет, так нельзя! Надо успокоиться, - приказал он себе, - а то, не дай бог, крыша съедет!».
Лёха посмотрел на свои трясущиеся руки и с трудом закурил.
Наконец он несколько успокоился, в голове слегка прояснилось. «А может, показалось? – сделал он робкую попытку обратиться к логике. – Может, они и не… Э, да что там, сам же всё видел!». Он обречённо махнул рукой, затушил сигарету и зашагал на работу.
Начальник мебельного цеха, в котором Галецкий работал столяром, подошёл к нему и с деланным равнодушием спросил:
- Что это вы, Алексей Алексеевич, сегодня, словно доской трахнутые?
Он всегда именно так обращался к Лёхе, если считал, что тот явился на работу «с бодуна».
- Да уж, трахнутые, да ещё как! – с вибрацией в голосе ответил Лёха. – От души трахнутые! Только не доской, а ключом!
- Каким ключом? – не понял начальник.
- Гаечным! – Лёха отвернулся, чтобы не показать задрожавших губ.
Начальник цеха внимательно посмотрел на столяра и сказал:
- Ты вот что, зайди-ка ко мне минуток через пяток! Лады?
Через пять минут они сидели друг против друга за длинным полированным столом и молчали.
- Рассказывай! – наконец сказал начальник цеха.
- Чего? – вяло отозвался Лёха.
- Всё! – начальник положил свою волосатую ручищу на Лёхино запястье. – Всё рассказывай! Помни, коллектив тебе не чужой!
От этих слов сурового на вид человека у Лёхи из глаз брызнули слёзы, и он несколько минут рыдал в голос…
Вечером того же дня в квартире Галецких появилась делегация с мебельной фабрики.
- Ты, Валентина, не обижайся, - сказал начальник цеха под одобрительное молчание товарищей, - но Алексея мы в обиду не дадим!
- А кто его обижает, Петрович? – искренне удивилась Валентина. – Уж не я ли? Не понимаю что-то…
- Не понимаешь? – сощурился начальник. – А ведь у вас дитё скоро будет! - он показал на живот Валентины. – Алексеев ребёнок!
- Да объясни ты толком! – взорвалась Валентина. – А то выгоню сейчас всех к чёрту! Пришли тут загадки загадывать!
- Вот это другой разговор! – оживился Петрович. – Вот это по-нашему! Ну-ка, Алексей, выдь на минутку!
Он усадил женщину на диван, сел рядом и низким голосом сказал:
- Расскажи-ка нам, голубушка, что у тебя с киномехаником-то приключилось? Уж не любовь ли, а?..
Когда Лёхе разрешили войти, в комнате стоял оглушительный хохот. Начальник цеха, вытирая выступившие от смеха слёзы, приказал Лёхе сесть рядом с женой и поднёс к его носу огромный волосатый кулак.
- Видал! Вот этим второй раз бью только по крышке гроба! Усёк?
Затем он обвёл глазами своих товарищей и многозначительно добавил:
- Ревность – это не порок, а большое свинство!.. Понял ли чего, мавр из оперы?
Лёха согласно кивнул.
Начальник цеха подошёл к Валентине и галантно поцеловал ей руку. Это вызвало у «сопровождающих лиц» несколько грубоватых острот, но не испортило общего хорошего настроения. Пожимая Лёхе руку, он сказал с напускной строгостью:
- Чтобы завтра был у меня в полном порядке!.. Дезинформатор!
Делегаты молча протягивали Лёхе руки и тот, благодарно кланяясь, словно китайский болванчик, говорил каждому:
- До свидания! Спасибо вам!..
Да, коллектив – это великая сила. Как, впрочем, и любовь.
А ревность – это, пожалуй, действительно не порок. Да и любви без ревности практически не бывает. А если и бывает, то это уже и не любовь вовсе, а что-то другое.
Хотя, конечно, в жизни всякое может случиться.
ВИЗИТ К ДАМЕ
Эта история могла произойти далеко не с каждым. Она не могла произойти, например, с человеком грубым и самоуверенным, честолюбивым и высокомерным. Она не могла произойти с людьми, лишёнными внутренней культуры, интеллигентности и порядочности. Оказаться в подобной ситуации мог только он, Витя Садиков, работник областного комитета по физической культуре и спорту.
Служебное положение и возраст нашего героя, казалось бы, обязывают называть его по имени-отчеству. Но мы позволим себе этого не делать. Почему? Да потому, что молод он во всех отношениях, наш герой, – телом и душой, в мыслях и чувствах, в отношении к себе и к людям. Во всём.
Кстати, не смотря на свои сорок пять, выглядит он лет на десять моложе. Многочисленные друзья-физкультурники с восхищением говорят о нём: «Витёк всегда в одной поре. Сохранился, как мамонт!».
Врачи утверждают, что степень здоровья – на лице каждого человека. Так вот, с лица Виктора Садикова не сходит улыбка. Кажется, он переполнен энергией весёлости, задора и оптимизма. Он прост и открыт для любого общения, не зависимо от времени суток и погодных условий. Все, кто попал в поле его обаяния, непременно становятся друзьями на всю жизнь. А как он рассказывает анекдоты – заслушаешься. Артист! Не было случая, чтобы старый «залепил» или в хохме какой повторился…
Лет пятнадцать назад, когда Витя Садиков был ещё действующим волейболистом и играл в сборной команде области, он влюбился в симпатичную девушку и талантливую спортсменку Людочку Головко. Познакомились на сборах. Людмила тоже была волейболисткой, но, в отличие от Виктора, мечтала стать Олимпийской чемпионкой.
Виктор, надо сказать, тоже понравился девушке и, возможно, у них в будущем могла бы получиться дружная спортивная семья.
Так бы, наверное, всё и вышло, если бы однажды не прозвучал финальный свисток в их только что начавшемся романе: Людмилу взяли в сборную команду страны, и она навсегда покинула родной город.
Расставание Виктор переживал трудно. Но, как вы уже поняли, не в его характере были долговременные сердечные муки и душевный дискомфорт. Хотя, светлый образ дорогого человека в виде маленькой любительской фотографии он долго хранил в заветном альбомчике, о существовании которого знал только он один.
Вскоре он поступил в «академию имени Дрябина», как называли между собой факультет физической культуры студенты пединститута, и с головой ушёл в учёбу.
Получив диплом учителя, был направлен преподавать физкультуру в одной из сельских школ. Затем – армия, вновь преподавательская работа, тренерская… В общем, типичный путь человека с высшим физкультурным образованием. Ничем не примечательный жизненный путь, если должность старшего инспектора-методиста в областном комитете физкультуры не считать бог весть каким достижением в карьере.
Нельзя сказать, что Виктор совсем забыл о существовании Людочки Головко. Да и невозможно было это сделать: её фамилия то в спортивной газете появится, то в телерепортаже, то друзья какую весточку подкинут.
Но потом наступила тишина, всё куда-то исчезло. Наверное, как думал Виктор, Людмила вышла замуж и сменила фамилию. «Может, это и к лучшему!» - успокаивал он себя.
Но, даже обзаведясь семьёй, Виктор иногда доставал Людмилину фотокарточку и у него начинало учащённо биться сердце.
Однажды в комитет физкультуры пришло письмо из Москвы с уведомлением, что к ним назначен новый председатель взамен ушедшего на пенсию. Его, говорилось в документе, надо принять должным образом с предоставлением жилья и всего необходимого для работы. Фамилия нового председателя была Хачатурян Л.Г. «Левонов Ганезовичей нам только не хватало!» - сокрушались сотрудники комитета, привыкшие работать со старым добрым начальником.
Каково же было изумление ветеранов отечественного спорта, которых, казалось, ничем удивить невозможно, когда пред их взорами предстала очаровательная молодая женщина Хачатурян Людмила Григорьевна, в девичестве – Людочка Головко, которую пятнадцать лет назад они делегировали в большой спорт.
- Здравствуйте, товарищи, - просто сказала новый председатель, входя в кабинет, где её ожидал весь состав комитета. – Прошу садиться… И, пожалуйста, без церемоний. Мы же свои люди. Я вас всех давно знаю, и вы, надеюсь, меня помните.
И тут же с чувством продекламировала есенинские строки: «Вы помните, вы всё, конечно, помните…».
В один миг обстановка в кабинете стала тёплой и дружеской. Все подходили к миловидной начальнице, поздравляли, говорили комплименты. Один лишь старший инспектор-методист Виктор Алексеевич Садиков сидел, как громом прибитый.
- Ты что, не узнал меня? – приветливо улыбаясь, сказала Людмила Григорьевна, подходя к Виктору. – Или не рад встрече?
Виктор вышел из оцепенения, но со стула встать не мог. Он густо покраснел и невнятно пробормотал:
- Ну как же, как же… Ну что вы, что ты…
Людмила Григорьевна внимательно посмотрела на него и сказала, обращаясь ко всем:
- Ну, вот и хорошо, вот и ладненько! Значит, будем работать!
Через пару дней, несколько разобравшись с делами, Людмила Григорьевна попросила секретаря пригласить к ней старшего методиста Садикова.
Выйдя навстречу Виктору, хозяйка кабинета усадила его в кресло, сама села напротив и сказала:
- Витька, милый, сколько же лет мы с тобой не виделись? Лет, наверное, двенадцать?
- Четырнадцать с половиной, - ответил Виктор, начиная краснеть и ненавидя себя за это.
- Четырнадцать с половиной! – эхом отозвалась Людмила Григорьевна. – Это же целая вечность! Это же целая жизнь!.. Рассказывай!
- Что? – уныло отозвался Виктор.
- Всё! Всё рассказывай! Как ты, что?.. Жена, дети?
- Жена, дети, - не поднимая глаз, вяло ответил Виктор.
- А у меня - ни-ко-го! – по слогам произнесла Людмила Григорьевна. – Одна, понимаешь?.. Только вот фамилия и осталась, - она на миг погрустнела, но быстро справилась с собой и ласково посмотрела на Виктора: - А ты – молодец! Классно выглядишь! И всё такой же красавец! Молодец!
Виктор всё ниже опускал голову и клял себя последними словами за то, что вся его обычная весёлость и раскованность куда-то исчезли, пропали, изменили ему. Словно это и не он сидит в кресле, опустив глаза и краснея, а какой-то другой, незнакомый ему человек.
Виктор и раньше замечал за собой подобные вещи – робеть и теряться перед начальством. Но ведь здесь – она, Люда, Людочка! Что ж такое!..
- Да подними же ты голову, чертушка ты этакий! – с нарочитой строгостью сказала Людмила Григорьевна, легонько хлопнув его по плечу. – Мы же друзья! Не так ли? Ну?..
Виктор поднял голову и вяло улыбнулся.
- Ну вот! – весело сказала Людмила Григорьевна. – Другое дело! А то сидит, как Пьеро, бровки домиком!
Она подошла к шкафу, достала из него бутылку коньяка и две маленькие серебряные рюмочки.
- Давай – за встречу!
- Давай… те.
- Что-о? – Людмила Григорьевна опустила бутылку. – Ты что, на «вы» меня хочешь звать? Или смеёшься?
- Да… Нет… Да нет, - испуганно забормотал Виктор.
- Так «да» или «нет»? - Людмила Григорьевна встала, взяла бутылку за горлышко и сделала полузамах, как при волейбольной подаче.
- Нет, конечно! - вконец растерялся Виктор. – На «ты»!
- Ну, то-то! – миролюбиво сказала женщина и опрокинула в рот коньяк.
Виктор вкуса жидкости не почувствовал и был бесконечно благодарен внезапно зазвонившему телефону.
Звонили из Москвы. Когда Людмила Григорьевна взяла блокнот и стала что-то записывать, отвернувшись от него, Виктор встал и на цыпочках вышел из кабинета.
В четверг и пятницу их пути не пересекались. Затем были два выходных дня, в течение которых Виктор не находил себе места.
В понедельник после традиционной планёрки Людмила Григорьевна попросила Виктора остаться и сказала:
- Я думала, ты в гости ко мне зайдёшь. Выходные же были. А ты не зашёл. Почему? Забыл меня, да?
- Нет, - ответил Виктор, чувствуя, что опять краснеет. – Нет, не забыл.
- Так что же не зашёл? Чайку бы попили, коньячку. Зайдёшь?
- Зайду.
- Когда?
- Когда хоти… хочешь.
- Хочу в субботу! – Людмила Григорьевна откинулась на спинку кресла и озорно посмотрела на Виктора. – Лады?
- Лады.
- Тогда – в шесть?
- В шесть.
До субботы оставалось пять дней…
- Владимир Петрович, выручай! – с отчаянием простонал Виктор, заходя в кабинет товарища по работе.
Долго и сбивчиво он объяснял сослуживцу, что его пригласила к себе домой некая (он так и сказал – некая) дама и он, старый дурак, согласился прийти и теперь не знает, что делать.
- Ну, если ты и дурак, то совсем не старый! – в обычной своей манере сказал сослуживец. – Это нам со Станиславом Александровичем надо… э-э… соизмерять. А тебе, юноша, даже и думать об этом грех! Орёл ты у нас или не орёл?
- Орёл-то орёл, - задумчиво проговорил Виктор, - но ведь лет десять с чужой женщиной… не это…
- Не батутировал! – помог сформулировать старший товарищ. – А ты не трясись и не дёргайся! Не суетись! Наше дело – что?.. Правильно! Помни, что ты – мужик! И всё будет о,кей! Усёк?..
Во вторник вечером Виктор почувствовал, что в его животе стали происходить какие-то непонятные процессы. Его вдруг так закрепило, что не помогали ни таблетки, ни подсолнечное масло, ни самомассаж. Длительное сидение в туалете тоже не приносило никаких результатов и лишь ухудшало настроение.
В общем, напрочь заклинило человека. Внутри урчало и булькало, словно в кипящем адовом котле. Любое движение причиняло боль. Ощущение было такое, словно килограмм гвоздей проглотил. Ничего не хотелось делать. Даже думать ни о чём не хотелось. Настроение катастрофически ухудшалось.
Ничего подобного раньше Виктору испытывать не приходилось, и его охватила тревога. «Ну куда я теперь такой? – думал он, вслушиваясь в процессы внутри себя. – Зачем я ей такой?.. Не пойду!» - неожиданно решил он, но быстро устыдился своей слабости: как расценит это Людмила? Трус, предатель! «Умирать, так с музыкой!» - вспомнил он любимую поговорку Владимира Петровича и решительно приказал себе: «Пойду!».
В пятницу после программы «Вести» слегка отошли газы, и Виктор часа на полтора забылся в беспокойном сне.
- Ты бы к врачу сходил, - участливо посоветовала жена в субботу утром. – Чего уж так мучиться-то! Или к экстрасенсу. А может, тебя сглазил кто?..
Виктор, как за соломинку, ухватился за слова жены, поскольку до сих пор не знал, чего придумать, чтобы уйти из дома.
В пять часов вечера, надев рубашку с галстуком и новый костюм, Виктор отправился к «экстрасенсу».
- Бумажки с собой возьми, а то мало ли что! Экстрасенсы, ведь они тоже люди!– уже на лестничной площадке посоветовала жена, поправляя на нём галстук и придирчиво оглядывая костюм.
Но он не стал возвращаться - плохая примета.
Без трёх минут шесть Виктор стоял у квартиры Людмилы Григорьевны, пряча за спиной букет гладиолусов. Голова слегка кружилась. Во рту было сухо. Живот пучило.
- Ты почему такой бледный? – спросила Людмила Григорьевна, пропуская гостя в комнату. – Не заболел?
- Нет, что ты! – торопливо проговорил Виктор, забывая вручить букет. – Здоров абсолютно!
- А это кому? – показывая на цветы, с улыбкой спросила женщина. – Мне?
- Тебе! – Виктор протянул ей букет. Женщина с благодарностью приняла его, поднесла к зарумянившемуся лицу, затем подошла к Виктору и поцеловала его в щёку.
В тот момент, когда Людмила подходила к Виктору, он вдруг почувствовал, что внизу живота у него что-то повернулось и активно запросилось наружу. Он с ужасом ощутил, что сейчас может произойти непоправимое, ужасное и унизительное.
- Люда! – неестественным голосом громко сказал он, резко прогибаясь в спине. – Мне бы… Я должен помыть руки! Это где?
Людмила Григорьевна, занятая букетом, не заметила странного поведения своего давнего друга и беззаботно ответила, махнув рукой:
- Там, направо.
Виктор на прямых ногах, запрокинув от напряжения голову, рванул в туалет и быстро снял брюки.
Он мог поклясться чем угодно, что подобного наслаждения не испытывал никогда в жизни. В течение нескольких секунд он почувствовал себя человеком. Ему сделалось так хорошо, что захотелось петь. Он бы, наверное, и запел, произойди всё это дома, в его собственной квартире…
«Двушка», полученная Людмилой Григорьевной от властей города, требовала серьёзного косметического ремонта. Прежние хозяева, выезжая «в пожарном порядке», оставили после себя полинялые обои, некрашеные полы и прогнившие водопроводные трубы. И всё-таки это была квартира! Другому бы и такой не дали…
Закончив процедуру, Виктор стал оглядываться в поисках бумаги. Поняв, что таковой в туалете нет, он вспомнил последние напутственные слова жены, и в его душе шевельнулась некоторая на себя досада. Настроение не ухудшилось, но состояние блаженства исчезло.
Мимо туалета дважды простучали каблучки – туда и обратно. Очевидно, Людмила Григорьевна выходила на кухню.
Сидеть в туалете с каждой секундой становилось всё тягостней. Запах дурманил голову и гнал вон. Настроение стало падать.
Внезапно Виктор вспомнил, что в самый последний момент жена сунула в карман его пиджака небольшой блокнотик с авторучкой: «Мало ли, рецепт какой записать!». Это его обрадовало и слегка приободрило.
Было слышно, как Людмила Григорьевна, напевая «миллион, миллион алых роз», снова дважды прошла мимо туалета. «А запашок-то, наверное, хоть святых выноси! - подумал он, натягивая брюки. – Стыдобища!.. Ладно, сейчас всё уладим!»
Мысленно находясь уже рядом с дамой своего сердца, Виктор потянул за верёвочку, готовый услышать характерное клокотание в сливном бачке. Но этого не последовало. Что-то, правда, противно хрюкнуло, но воды не вылилось ни капли. Тогда он чуть энергичнее повторил движение. Результат был тот же.
Виктор тыльной стороной ладони вытер вмиг вспотевший лоб и встал на унитаз. Запустив руку в бачок, он понял, что воды там не было со времени всемирного потопа. Это была катастрофа.
Виктор слез с унитаза, обхватил голову руками и упёрся лбом в давно некрашеную стену. «Ну вот и всё! – подумал он, глядя на носки своих ботинок. – Вот теперь точно – конец! Финиш! Финита ля комедия!»…
Внезапно голос Людмилы Григорьевны перестал быть слышен. В комнате стало тихо. Виктор прижался ухом к двери и весь превратился в слух. «Наверное, вышла в другую комнату, - подумал он, напрягая все душевные силы, чтобы унять противную дрожь в ногах. – Переодевается, наверное».
С величайшей осторожностью он отодвинул защёлку, открыл дверь и шагнул в комнату. Букет гладиолусов в фиолетовом графине возвышался на столе среди бутылок и различной снеди.
Осторожно прикрыв дверь, Виктор на цыпочках прошёл в прихожую, взял с тумбочки свою шляпу и, словно дух, покинул гостеприимную квартиру. Последнее, что он услышал, прикрывая дверь, была песня. По радио Утёсов пел на два голоса: «Всё хорошо, прекрасная маркиза…».
«За исключеньем пустяка!» - успел подумать Виктор.
До остановки автобуса он шёл, не замечая ничего вокруг и странно улыбаясь. Прохожие испуганно сторонились его, полагая, что человек не в себе.
Дома, не взглянув на жену, Виктор быстро прошёл в ванную комнату и долго мыл руки, тщательно намыливая, и что-то бормотал себе под нос.
Жена, сгорая от нетерпения, постучала в дверь и спросила:
- Ну что, помог экстрасенс-то?
- Помог! – хрипловатым голосом ответил Виктор, очередной раз намыливая руки. – Ещё как помог! А то как же – на то и экстрасенс!
Жена улыбнулась и, подавая ему чистое полотенце, сказала:
- Вот видишь, жена плохого не посоветует! Слушаться надо жену-то! Слушаться и любить! Не так ли?..
- Так! – охотно согласился Виктор, садясь за накрытый к ужину стол.
Вдруг его взгляд упал на журнальный столик возле телевизора, где в высокой стеклянной вазе стоял роскошный букет гладиолусов. Виктор вздрогнул, отодвинул от себя тарелку с грибным супом и закрыл лицо руками. В один миг он представил себе весь ужас случившегося, нелепость своего положения и то, как он завтра…
Виктор уронил руки на стол и застонал.
- Что? – кинулась к нему жена. – Что? Опять?
- Всё нормально! – еле слышно прохрипел Виктор. – Всё хорошо! Всё хорошо… прекрасная маркиза!
Последние слова он произнёс сквозь слёзы.
Затем он подошёл к журнальному столику, медленно и осторожно, словно ядовитую змею, достал из вазы букет и на вытянутых руках вынес его на балкон. Там он некоторое время с ненавистью всматривался в лепестки и стебли невинного растения. Затем разжал руки и, не глядя на падающий вниз букет, быстро возвратился в комнату.
- Ты почему такой бледный? – спросила жена, встревоженная поведением супруга. – Не заболел?
Виктор пошатнулся, как от удара, но устоял. Помотав головой, тихо ответил:
- Нет, что ты! Здоров абсолютно!.. Теперь здоров!
НАПУГАЛ
Александр Викентьевич Спеваков не сал всю ночь. Причиной его бессонницы были страх, угрызение совести и сухость во рту.
А началось всё это с того момента, когда он начал пить. «Попал в зависимость к зелёному змию!» - торжественно провозглашал Спеваков, решительно поднимаясь навстречу всем, кто пытался его поднять, поставить на ноги, образумить, пристыдить, направить на путь истинный. И люди вскоре потеряли к нему интерес, а затем и вовсе махнули рукой: «Ну и пропадай!».
Со своей «зависимостью» Александр Викентьевич постепенно свыкся и утратил всякую надежду ощутить себя свободным человеком. И если страдания физические как-то можно было ещё терпеть, понижая их традиционным способом, то муки душевные порой доводили его до исступления. Особенно сильны они были под утро, когда начинал отступать пьяный угар.
Способов борьбы с угрызением совести и страхом Спеваков не находил, а от сухости во рту избавлялся частыми вставаниями и подходами к чайнику с водой, отчего к утру глаза его заплывали и лицо приобретало нездоровый вид.
В тот день в холодильнике стояла бутылка пива, но Александр Викентьевич берёг её на самый крайний случай.
В шесть утра, когда Спеваков, наконец, задремал, бешено затрещал будильник, заведённый до отказа женой ещё с вечера. Трескотня эта больно ударила по натянутым нервам, и он спрятал голову под подушку.
На душе было муторно. При каждом ударе сердца, перекачивающего насыщенную алкоголем кровь, тело Спевакова дёргалось. И от этого становилось ещё противнее. Как в лихорадке тряслись руки, ноги и даже голова. Жить не хотелось.
Надежду на спасение вселяла только бутылка «Янтарного» в холодильнике.
Прикрывшись подушкой, Александр Викентьевич вяло соображал, что бы такое придумать, чтобы не ходить на работу. Времени на обдумывание оставалось всё меньше, и он начал лихорадочно перебирать варианты. Болезнь жены, затопление квартиры, взорвавшийся телевизор… Нет, всё отпадало, как уже имевшее место быть. От напряжённой работы мысли он вскоре устал и прекратил думать вообще.
Александр Викентьевич работал инспектором гражданской обороны в одной полувоенной организации, где трудовая дисциплина сотрудников была возведена чуть ли не в культ. Кроме того, бог послал Спевакову совершенно непьющего начальника, который уже не раз указывал своему подчинённому на присутствие у него «остаточного явления». В воздухе пахло грозой, развязка могла наступить в любой момент.
«Нет, пива пока нельзя! – снова подумал Спеваков. – Но что же делать, что?..»
От резкого толчка в плечо мысли вновь оставили Александра Викентьевича. Раздался голос жены:
- Ты где был вчера? Ты откуда пришёл такой? Ты долго будешь мучить меня, паразит?..
Вопросы сыпались на больную голову Спевакова, причиняя ему невыносимые страдания.
- Нет, ты не отворачивайся! – жена резким движением сдёрнула с головы мужа подушку. – Ты зенки-то свои бесстыжие не прячь! Ты мне в глаза, в глаза смотри! Где, сволочь, деньги?
Александр Викентьевич попытался снова завладеть подушкой, за что получил ещё один болезненный тычок в плечо.
- Нет, ты не закрывайся, не закрывайся! Ты скажи, как с такой рожей на работу пойдёшь?..
- Отстань, а! – хрипло попросил Спеваков.
- Ах, мне ещё и отстать! Это мне-то ещё и отстать! – жена два раза сильно ткнула в плечо. – Говори, паразит, где деньги?
- В мешках! – буркнул Александр Викентьевич, отчаявшись избавиться от болезненных тычков. – В мешках! – повторил он, поджимая под себя ноги.
- В каких мешках? – на минуту опешила жена. – Это в каких ещё мешках?
- Вот в таких! – Спеваков растопырил пальцы правой руки и упёр их себе под глаза.
- Ах та-ак! – прошипела жена. – Хохмочки, значит, анекдотики! Ну ладно!
С этими словами, ещё раз ткнув мужа в бок, она вышла на кухню.
Через некоторое время Александр Викентьевич услышал звук открываемой бутылки и характерное бульканье выливаемой в раковину жидкости.
«Вылила!» - догадался Спеваков, и его охватило благородное негодование. Поступок жены лишал его последней надежды. Он соскочил с постели и пошёл на кухню.
- Ты знаешь, что ты сейчас сделала? – сказал он, задыхаясь от волнения и тряся руками перед лицом жены. – Ты понимаешь, что это… злодейство! Ты хоть… Ты пожалеешь об этом! О, как ты пожалеешь об этом! – он стоял перед женой, гордо запрокинув голову.
- А что я такого сделала? – театрально всплеснула руками жена. – Пиво-то твоё поганое вылила? Так у тебя же мешки денег! Ты на них мно-о-го пива можешь купить!
Александр Викентьевич почувствовал, что земля уходит у него из-под ног и, держась за стенку, пошёл в ванную.
В зеркало он увидел опухшее небритое лицо, на котором лихорадочным блеском горели воспалённые глаза с покрасневшими веками.
«Может, побить её? - внезапно подумал он, рассматривая своё непривлекательное отражение. – Нет, бить нельзя, а вот наказать…».
Под душем к Александру Викентьевичу вдруг пришла замечательная мысль избавления от произвола, чинимого женой.
«Повешусь! – обрадовался он своей идее. – Повешусь, а там видно будет!».
Решив, что акт ухода из жизни следует совершить немедленно, он стал осматривать ванную.
В потолке, как бы специально для того, чтобы вешаться, был вмонтирован крюк. За коробками со стиральным порошком Александр Викентьевич отыскал бельевую верёвку и завязал её у себя под мышками. Затем надел рубашку, застегнул на все пуговицы, а второй конец верёвки, встав на край ванны, зацепил за крюк в потолке. В голове вертелось где-то слышанное: «Суицид – это добровольный уход из жизни!».
«Ничего себе – добровольный! – думал инспектор гражданской обороны, завязывая последний узел. – Ничего добровольного нет! Самое настоящее убийство! От такой жизни любой в петлю залезет!». С этими мыслями он подёргал верёвку, как бы убеждаясь в её крепости, и осторожно опустился с края ванны. Тело повисло в пятнадцати сантиметрах от пола.
«Минуты две провишу! – подумал Александр Викентьевич, почувствовав, как сразу стало трудно дышать. – Пиво ей помешало!».
Когда его тело, покачиваясь, развернулось к зеркалу, Спеваков увидел перекошенное лицо мученика.
«Надо будет высунуть язык, когда войдёт! – снова подумал он, продолжая слегка раскачиваться и поворачиваться вокруг своей оси.
Верёвка сильно давила под мышками, руки стали затекать и терять чувствительность.
«Да где же она? – начал тревожиться Александр Викентьевич. – Этак можно и…»
Боль от врезавшейся в тело верёвки усиливалась, дышать становилось всё труднее.
Александр Викентьевич из последних сил сделал несколько раскачиваний и пнул ногой дверь, чтобы привлечь внимание жены.
- Зина! – робко позвал он.
Ему никто не ответил. Страшная догадка, что вынимать его из петли будет некому, заставила перейти к активной мыслительной деятельности. «Никто не даст нам избавленья!» - зачем-то возникли в голове строчки из гимна борцов за справедливость и он решил прекратить «добровольный уход из жизни».
Неимоверными усилиями он поднял затёкшие руки вверх и одеревеневшими пальцами попытался дотянуться до узлов, но быстро убедился в тщетности своих усилий.
Надо сказать, что в стремлении к суициду Спеваков умудрился завязать конец верёвки, которую обмотал вокруг туловища, двумя узлами на спине, и теперь о возможности развязать их нечего было и думать.
Каждое движение причиняло инспектору страшные муки. Верёвка всё глубже врезалась в ослабевшее тело. Дышать стало тяжело, перед глазами поплыли радужные круги и заискрились звёздочки. От мысли, что он действительно может умереть, по телу Александра Викентьевича, как от электрического тока, прошла дрожь, и на минуту наступило просветление ума.
- Зина! – прохрипел он в открытую дверь ванной комнаты. – Ты где?
Ответом ему была тишина и он окончательно понял, что жены дома нет.
Тела своего Спеваков уже совершенно не чувствовал и только острая боль под мышками не давала ему окончательно потерять сознание. Он вдруг заметил, что с каждым разом, когда его разворачивало к зеркалу, у него всё больше вываливался язык. От жалости к себе из глаз Александра Викентьевича покатились крупные слёзы.
«Так бездарно умереть!» - мелькнуло в затуманенном мозгу и он стал мысленно прощаться с жизнью.
Внезапно послышался звук открываемой двери, и на пороге ванной комнаты возникла жена Зина с хозяйственной сумкой в руке, где были хлеб и молочные пакеты.
- Ты чего тут висишь? – грубовато спросила Зина, недоверчиво глядя в посиневшее лицо мужа. – Повесился, что ли?
- Зина… сними… меня…, - еле ворочая одеревеневшим языком, простонал Александр Викентьевич.
Оценив драматичность ситуации, Зина схватила кухонный нож и полоснула им по верёвке над головой мужа. Тело Спевакова повисло у неё на руках. Он поднял голову, хотел что-то сказать, но глаза закатились и сознание оставило его.
Придя в себя от поднесённого к носу пузырька с нашатырным спиртом, Александр Викентьевич спросил:
- Я живой или…
- Да живой, живой! – успокоила жена, вытирая холодный пот со лба мужа.
Александр Викентьевич попытался пошевелить пальцами рук, затем ног, и вскоре окончательно убедился, что находится на этом свете. Приподнять голову он побоялся, потому что тело выше пояса жгло, как в раскалённом корсете.
- Ты зачем верёвкой обмотался? – спросила Зина, укоризненно глядя на мужа. – Повеситься, что ли, хотел?
- Да-а, - еле слышно ответил Спеваков.
- Меня, что ли, хотел напугать?
- Да-а.
- А если бы я на работу ушла, а не в магазин? Что тогда? Так бы и дрягался на верёвке весь день?
- Да-а.
- О, господи! Что ты заладил: да-а, да-а! Сказать, что ли, больше нечего?
- Есть!
- Что – есть?
- Есть, что сказать!
- Ну, и что же?
- Я больше не буду!..
Жена Зина некоторое время внимательно смотрела на мужа, затем поправила под ним подушку и грустно сказала:
- Зарекалась ворона… сам знаешь! Ладно, поживём – увидим! Но учти, если ещё хоть раз повторится, вот этими вот руками…
Александр Викентьевич схватил покачивающиеся над ним руки жены и благодарно прижался к ним губами.
В это время он свято верил, что впереди у него светлая и радостная жизнь.
А почему бы и нет!..
СУД ТОВАРИЩЕЙ
В клубе завода «Луч» шло заседание товарищеского суда с повесткой дня: «Личное дело т. Свинороева Д.Ф. и его моральный облик». Самого обвиняемого на суде не было.
Несмотря на то, что в объявлении, которое висело при входе в клуб, был нарисован небритый субъект с красным носом, обнимающий огромную бутылку водки, была приписка: «Танцев не будет», в зале суда собралось много заводчан. Здесь присутствовали и случайные люди, пришедшие от нечего делать, но в основном собрался народ, хорошо знавший подсудимого по совместной работе. Пьяных почти не было.
- Товарищи! – постучав карандашом по графину с водой, сказала председательствующая Пузырёва, женщина с волевым лицом, похожая на артистку Мордюкову. – Предлагаю заседание товарищеского суда по поводу личного дела Свинороева начать. Какие будут предложения?
Зал настороженно затих.
- А где он сам-то? – послышался голос из зала.
- Кто? – не поняла Пузырёва.
- Подсудимый-то, Пузырёв-то?
- А шут его знает! – махнула рукой председательша. – Наверное, как обычно! – она ловко щёлкнула пальцами себя по кадыку, чем вызвала одобрительный шум в зале.
- Валяй без него! – раздалось сразу несколько голосов.
- Товарищи! – проговорила Пузырёва. – Довожу суть дела. Все вы знаете, о чём идёт речь. Так вот! Седьмого апреля, в пятницу, карщик Свинороев на работу пришёл с глубокого похмелья. С целью поправиться он выпил стакан водки, которую принёс с собой, и два часа нахально катал на своей каре нормировщицу Зину Редькину, чем вывел её из строя.
В зале послышались смешки, издевательские вопросы:
- Кого он из строя-то вывел? Зинку, что ли?
Пузырёва, не обращая внимания на глупые вопросы, продолжала:
- А в обед он выпил ещё один стакан водки, чем довёл себя до безобразного состояния. Кроме того, он отказался ремонтировать свою кару, а просидел до конца смены в курилке, где травил анекдоты и отвлекал людей от плана работы. Это за ним замечалось и в отношении других женщин завода….
В зале опять захихикали. Раздался звонкий молодой голос:
- Кому он анекдоты-то рассказывал? Женщинам, что ли?
- Неважно – кому, а важно, что анекдоты! - парировала Пузырёва. – Да хоть бы анекдоты-то были смешные, а то - так себе. Слушать нечего. Ерунда всякая.
- Неправда! – раздался возмущённый голос из задних рядов. – Митька смешно рассказывает.
- Нет, правда! – подалась всем телом вперёд Пузырёва. – Если я говорю – правда, значит – правда! Старые анекдоты, не смешные!
- Какие, например? – привстал с места черноволосый парень. – Вы докажите!
- И доказывать нечего! – снова тряхнула головой Пузырёва. – Старые, и всё!
Из шестого ряда встал пожилой человек интеллигентного вида и, прижимая шляпу к груди, обратился к суду:
- Прошу меня извинить, я случайно попал на ваше заседание…. Но, как юрист, я обязан подтвердить правомерность поставленного молодым человеком вопроса о доказательстве вины подсудимого. Вам, очевидно, известно такое понятие как презумпция невиновности? Исходя из этого, мы должны давать неопровержимые доказательства степени вины подсудимого. Нам, коллега, как хирургам, нельзя ошибаться…. Ещё раз извините, коллега!
Пожилой мужчина сел, а зал взорвался криками:
- Докажите! Неправда! Зря говорите! Презумпция!..
- Ничего доказывать вам не буду и не собираюсь! – ответила Пузырёва, закрывая папку. – Пьяница он!..
В зале поднялся невообразимый шум. Слово «пьяница» произвело эффект разорвавшейся бомбы.
- Не имеете права! – орал громче всех черноволосый парень из середины зала. – Сейчас все пьют, так что, за это судить надо? Не выйдет! Не-за-кон-но!
- Видали законника?! – Пузырёва показала рукой в сторону кричавшего. – Пашка Снегирёв законником стал! Ты, Паша, чем горло драть, вышел бы сюда и сказал, где дружок твой сейчас ошивается! Знаешь ведь, наверное!
- А вы не уводите, не уводите в сторону! – запальчиво ответил Снегирёв. – Вам про анекдоты доказать надо, вот и доказывайте!
Его поддержали сразу несколько голосов.
- Ладно! – махнула рукой Пузырёва. – Доказывать так доказывать! Слыхали про Василия Ивановича?.. Да ведь слыхали, наверное?! Ну, ладно! Летит, значит, по небу аэроплан белогвардейский, а Василий Иванович с Петькой удирают от него. Оба падают в канаву и закрывают головы руками. Когда аэроплан пролетел, Петька говорит: «Фу, пронесло!». «И меня тоже!» - отвечает Василий Иванович… Ну, и чего тут смешного? – закончила Пузырёва под дружный смех зрительного зала.
Взглянув на членов товарищеского суда, которые проявляли живейший интерес к выступлению своего председателя, она продолжала:
- Про Брежнева слыхали? Нет? Ну, значит, так. Идёт Брежнев по Третьяковской галерее, а ему картины показывают. «Вот, говорят, это картина Васнецова, и стоит сто тысяч долларов. Вот эта картина Саврасова – стоит двести тысяч долларов. А вот картина «Демон» - Врубель!». Брежнев постоял перед картиной, подумал, и говорит: «Хорошая картина, а главное – недорогая!»
Воодушевлённая дружной реакцией зала, Пузырёва продолжала:
- Приходит молодая учительница географии в четвёртый класс, а ученики не слушают её, вертятся, разговаривают, дерутся. Учительница их усмиряла-усмиряла, видит, что ничего не получается, и – к директору. Тот приходит в класс, хрясь по столу кулаком и спрашивает: « А ну, кто знает, чем отличается секс от глобуса?». Класс сразу притих, а один мальчик встаёт и спрашивает: «Товарищ директор, а что такое глобус?». «Вот об этом сейчас и расскажет вам новая учительница географии!» - отвечает директор…
В зале не осталось ни одного сидящего человека. Кто полулежал, запрокинув голову за спинку кресла, кто вообще сполз на пол. Стоял сплошной стон, взвизгивание и похрюкивание. Члены товарищеского суда, держась за животы, раскачивались на своих стульях, как ваньки-встаньки.
- А вот… А вот ещё один из той же серии!.. Да тише вы! – раскрасневшаяся, со сверкающими очами Пузырёва успокаивала слушателей. - Значит так! Прогулял Вовочка два дня, а его учительница и спрашивает: «Где был два дня?». Вовочка ей отвечает: «Мария Ивановна, у меня мамка трусы постирала, вот я и не был один день в школе!». «А второй?» – спрашивает учительница. Вовочка говорит: «Иду я, Мария Ивановна, на второй день в школу мимо ваших окон, вижу – ваши трусы на балконе сушатся, ну, я и подумал, что вы тоже в школу не придёте!».
Минут пять Пузырёва приводила в чувство совершенно обезумевшую от смеха публику. Она дважды спускалась в зрительный зал и подходила к интеллигентному юристу, поскольку ей казалось, что ему плохо, он икал, вздрагивал всем телом и сползал с кресла. Убедившись, что юрист будет жить, Пузырёва вновь поднялась на сцену и жестом известной артистки успокоила зал:
- Тише товарищи! Как муж домой из командировки вернулся, а там любовник – слышали? Нет? Значит так...
В это время с шумом распахнулась боковая дверь рядом со сценой и в зал нетвёрдой походкой вошёл Свинороев Д.Ф. в расстегнутом пальто и сдвинутой на затылок кепке.
Увидев подсудимого, все, в том числе и суд, в едином порыве вскочили со своих мест и устроили ему бурную овацию.
Свинороев, ничего не понимая, машинально прошёл к трибуне. Из зала раздались требовательные голоса предоставить ему слово.
- А чего говорить-то? – хрипловато спросил Свинороев. – Мне и говорить-то нечего!.. Ну, было…
- Дима, ты про Сталина, про Сталина расскажи! – завопили из задних рядов.
- Про это дело давай, Димон! – громыхнул из середины зала рыжий гигант в спортивном костюме.
- Про чукчу, про чукчу! – тоненькими голосам попросили две девочки-семиклассницы из первого ряда.
Дмитрий Фёдорович прокашлялся, достал из кармана расчёску, тщательно причесался…
- Ну-с. С чего начнём? – проговорил он. – Может быть, с производственной темы? Не возражаете?
Публика не возражала.
Заседание товарищеского суда продолжалось.
ОДИН ДЕНЬ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
Стоит бронзовый Николай Алексеевич Некрасов на берегу великой русской реки Волги и думает: «Кому на Руси жить хорошо?». Давно стоит поэт, объятый думой, но никак не находит решения своему вопросу.
Но вот мимо проходят две симпатичные девушки, одна другой краше, с походкой и взором цариц.
«Господи, - думает Николай Алексеевич, - красота-то какая! Да были ли этакие в наше время? Кажись, и не было. Всё в длинных юбках, помню, а здесь… Что губки, что щёчки – горьмя горят! А ножки, ножки-то! Ах ты, Господи!..»
Между тем очаровательные создания останавливаются, достают из сумочек сигареты и закуривают. Одна говорит, с наслаждением заглатывая дым:
- К-а-йф! Вчера ништяк оттянулись! По штуке с рыла, но балдёж, я те скажу, охренеть! Машка с Гариком – в отрубе, Зинка – в дупель, Геша – в мат! Короче – финиш!
- Зава-а-ал! – восхищённо подхватывает подруга, делая частые затяжки. – Ну, я тащусь, в натуре! А шнурки-то где, слиняли, что ли?
- Да сдулись куда-то!..
«Жаль, плохо по-русски говорят! – с сожалением подумал Николай Алексеевич. – Иноземки! Жаль!»
Неподалёку останавливается группа молодых людей. Высокий юноша с красивым лицом и благородными манерами говорит:
- Костыль, ты засёк, здесь две метлы ошивались? Надо бы снять! Классный пиломатериал!
- Утухни, Лимон! – доброжелательно отзывается второй, столь же интеллигентного вида молодой человек. – Закатай губу, это Лёхи Гнутого тёлки!
«И эти тоже не наши!» - поскучнел великий стихотворец.
Внезапно подходит мужчина в лёгком не по сезону пальто и с потёртым пакетом в руках, останавливается перед Николаем Алексеевичем, и буднично спрашивает, слегка покачиваясь:
- Стоишь?
Певец горя народного хотел уже, было, ответить: стою, мол, чего же не стоять, если поставили, но одинокий опередил:
- Ну и стой!
Сделав пару шагов в сторону, он вдруг остановился и вновь обратился к поэту:
- Не, я тебе сначала стих расскажу!
Он подошёл ближе, ступил на мраморные плиты, зачем-то снял шапку, бросил её оземь, растопырил руки и запричитал:
- О, Волга! Колыбель моя! Любил ли кто тебя, как я? Один по утренним зорям, когда ещё всё в мире спит, и алый блеск едва скользит по тёмно-голубым волнам…
Человек в демисезонном пальто внезапно опустил голову и горько заплакал. Николай Алексеевич почувствовал к нему такую любовь и нежность, что уже готов был сойти с пьедестала, чтобы обнять и утешить гражданина, но тот опередил:
- Я убегал к родной реке, спешил на помощь к рыбакам, катался с ними в челноке и… пузырёк держал в руке! – внезапно закончил он словами, не имеющими ничего общего с теми, которые были рождены в душе поэта полтораста лет назад. Затем он поднял шапку, глотнул мутноватой жидкости из маленькой бутылочки и, по-военному отдав Николаю Алексеевичу честь, торжественно сказал:
- Хороший ты мужик, Коля! Хор-роший! Понял? Ну, вот и стой! А мне надо… это… - мужчина не договорил, заёжился, засучил ногами и мелкой рысью рванул к стоящему поодаль дереву.
Вдруг из окна соседнего дома донеслась мелодичная музыка и чистый мужской голос повёл повествование о любви коробейника к своей зазнобушке и о том, как, в конце концов, всё у них сладилось.
Слушая песню, Николай Алексеевич совершенно успокоился и снова устремил свой взор в заволжские дали. Мысли о том, кому на Руси жить хорошо, на время оставили его.
День клонился к закату.
Там, куда смотрел Николай Алексеевич, небо было тёмным, грозовым. Волга, словно несжатая полоска ржи, отделяла его от огней большого города, шумного и суетного.
Внезапно у его ног остановились двое пожилых людей. Он и она. Он держал в руках небольшой букетик полевых цветов, который затем бережно положил к подножью монумента. С минуту они постояли молча, опустив головы, затем тихо пошли по набережной, о чём-то переговариваясь.
«Вот они, русские люди! – с благодарностью подумал Николай Алексеевич. – Храни вас, Господь!»
Затем он привычно сложил руки на груди, слегка отставил правую ногу, и сделал вдруг неожиданный для себя вывод, что были и есть люди, которым действительно вольготно и весело живётся на Руси. И люди эти, как правило, небогатые, чистые в делах и помыслах, скромные, великодушные и милосердные.
«Вынесет всё, и широкую, ясную грудью дорогу проложит себе!» - подумал «народный печальник» о людях своей Отчизны, и ему стало хорошо на душе.
ВЕЧНАЯ ПРОФЕССИЯ
О ремёслах, о профессиях, о деле, которым занимается человек в своей жизни, сказано и написано так много, что в очередной раз затрагивать «производственную тему» как-то даже и страшновато.
Но здесь случай особый.
В шесть часов вечера Николай Иванович Грошев стал собираться в последний путь. Такое решение он принял ещё вчера, когда понял, что жить ему в этом мире остались считанные дни.
Кладбище находилось в шести километрах от города. Добраться туда без хлопот можно было на автобусе или такси, но Николай Иванович решил идти пешком.
Положив в полиэтиленовый пакет головку лука, три огурца, полбуханки хлеба и бутылку водки, Николай Иванович присел на табуретку и задумался.
Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льётся с клёнов листьев медь.
Будь же ты во век благословенно,
Что пришло процвесть и умереть! –
затрепетали в его голове строки горячо любимого поэта.
Выйдя из дома, Грошев запер дверь и взглянул на небо, где зажигались первые неяркие звёздочки. Вечер обещал быть тёплым и ясным. Николай Иванович вздохнул, постоял ещё с минуту и зашагал в сторону кладбища.
Грусть, охватившая его, усилилась от внезапно пришедшего на память:
А когда ночью светит месяц,
Когда светит… чёрт знает как!
Я иду, головою свесясь,
Переулком в знакомый кабак…
На улице почти не было прохожих, что вполне устраивало Николая Ивановича, так как не мешало думать о бренности бытия.
Звёзд на небе становилось всё больше, и горели они всё ярче. Двурогий месяц освещал последний путь любителя высокой поэзии, будоража его мысли и чувства. «Вяжет взбалмошная луна на стене золотые узоры» - думал он, поглядывая на сверкающие электрическим светом окна домов, за которыми своим чередом шла жизнь.
Печаль не покидала Николая Ивановича, и ему вдруг захотелось сесть где-нибудь на лавочку и выпить водки. Он даже остановился, но из памяти выплыла, резанув по сердцу, строка: «Не такой уж горький я пропойца…». Крепко сжав ручки пакета, он пошёл дальше.
Месяц светил так ярко и вызывающе, что от него невозможно было отвести глаз. Вечер был поистине прекрасен.
И вновь вернусь я в отчий дом,
Чужою радостью утешусь.
В прекрасный вечер под окном
На рукаве своём повешусь –
внезапно пронзили Николая Ивановича трагические строки, и ему стало грустно.
Чтобы как-то освободиться от печальных мыслей, он попытался вспомнить смешные эпизоды из своей жизни, но из этого ничего не вышло. Словно и не было в его судьбе ничего весёлого и радостного. А раньше казалось, что было. Эх, жизнь, жизнь! Память тут же услужливо подбросила: «В этой жизни умереть не ново…».
Между тем джунгли каменных многоэтажек кончились и пошли дома поменьше, затем совсем маленькие, деревянные, с огородами и садами. Но скоро и они закончились, и перед взором Николая Ивановича предстало залитое лунным светом поле, отделяющее город от кладбища.
Синий свет, свет такой синий!
В эту синь даже умереть не жаль.
Ну так что ж, что кажусь я циником,
Прицепившим к заднице фонарь –
прошептал он, словно молитву, есенинские строки и зачем-то достал из кармана электрический фонарик. Никуда он его прицеплять не хотел, да и циником никогда не был, но стихи ему нравились так, что приводили к непредсказуемости поведения.
Вспомнилось другое, спокойное:
Дорога довольно хорошая,
Приятная, хладная звень.
Луна золотою порошею
Осыпала даль деревень.
От этих стихов и от того, что до кладбища оставалось совсем близко, на душе Николая Ивановича потеплело.
Свет месяца в открытом поле казался ярче, чем в городе. «Эх, жить бы ещё да жить!» - прозаически подумал Николай Иванович, и быстрее зашагал по еле заметной тропинке.
Кладбище встретило его холодноватым отблеском надгробий и памятников, а также затихающим гомоном воронья, устраивающегося на ночлег в своих гнёздах.
Из будки у небольшого сооружения, похожего на строительный вагончик, выскочила длинноухая дворняга и залились лаем, но, узнав Николая Ивановича, виновато и приветливо завиляла хвостом.
- Дай же, пёс, я тебя поцелую и как друга введу тебя в дом! – сказал Николай Иванович и погладил собаку по голове. Затем он решительно открыл дверь и с порога спросил:
- Гостей принимаете?
- Мы покойников принимаем! – невесело ответил ему мрачного вида мужчина с бородой и в телогрейке, подавая руку.
- Чего так долго-то? – с обидой в голосе спросил второй, на вид ещё более мрачный. – Тебя за смертью посылать!
- Не торопись, Аркадий! – сказал Николай Иванович. – Все там будем! Хотя, в сущности, кто я для вас теперь? Покойник и есть!..
- Да ты не тяни, покойник! – прервал его бородатый в ватнике. – Принёс хоть чего?
- Эх, Костя, тебе бы только – «чего»! – укоризненно посмотрел на него Николай Иванович. – Ну, конечно, принёс! Куда я денусь!
С этими словами он поставил пакет на стол из плохо оструганных досок и стал вынимать содержимое.
- А чего одну-то? – в один голос взволнованно спросили мрачные. – На троих-то? Смеёшься, что ли?
Николай Иванович в упор посмотрел на лица обескураженных приятелей:
- А то – одну, что в последний путь провожаете товарища! Поминки у нас, а не… Не до умру же!
Расстелив на столе газету, Николай Иванович неторопливо разложил закуску. Затем подошёл к небольшому окошку, отодвинул ситцевую занавеску и произнёс:
- За окном лунища - ну и здорово! – пролегла, просторы надвое порвав!..
- Опять ты со своим Есениным! – взмолился бородатый. – Целый день ждали, а он – стихи! По чуть-чуть бы, терпежу ведь нет!
- Это Маяковский!
- Какая разница… Да не томи ты, Иваныч! – поддержал его второй, открывая бутылку.
- Ишь, истомились они! – миролюбиво проворчал Горячев. – Ладно, насыпай!
Подняв стакан с налитой до половины водкой, Николай Иванович встал и попросил то же самое сделать своих товарищей.
- Господи! – произнёс он, поднимая глаза вверх. – Упокой душу раба твоего Николая!
Все выпили.
- Ты чего Бога-то поминаешь, Иваныч? – спросил бородатый, похрустывая огурцом.
- О нём, Костя, всегда надо помнить! – ответил Николай Иванович, выливая в стаканы остатки водки. – О Боге забывать нельзя, друзья мои!
Он снова встал, взял стакан двумя руками, наклонил голову и с глубокой печалью произнёс:
И за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать,
Положите меня в русской рубашке
Под иконами умирать!
Всем стало грустно.
Прощаясь, бородатый сказал:
- Может, поживёшь ещё? Чего заторопился-то?
- Нет, надо! – коротко ответил Николай Иванович. – Пора!
- Не старый ещё, чтобы с дочкой-то жить! – не унимался бородатый. – Да и что там, в другом-то городе? Может, и кладбища-то нет! Может, крематорий какой! Без работы, что ли, хочешь остаться?
- Всё нормально, Константин! – бодро ответил Николай Иванович, пожимая ему руку.
Подойдя ко второму, он так же с чувством произнёс:
- Всё нормально, Аркадий! Копаля везде нужны! Во все времена и эпохи! Профессия наша – вечная!..
Крепко обняв друзей, Николай Иванович вышел из помещения. Месяц продолжал ослепительно сиять, делая все предметы вокруг сказочными. От памятников и надгробий исходил мягкий призывный свет. Галки и вороны на деревьях угомонились, всё опустилось в дремоту. Шумы города сюда не долетали. Стояла мёртвая тишина.
Виляя хвостом, вышла из будки вислоухая собака и остановилась у ног Николая Ивановича. Он присел перед ней на корточки, погладил по голове и сказал, как пропел:
Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду…
Он встал и быстро, не оборачиваясь, пошёл к выходу.
Уже в поле, весь облитый лунным светом, повернулся и громко крикнул:
- Она вечная, друзья мои! Вечная, как мир!
Затем энергично помахал рукой, и уже не оглядываясь, зашагал в сторону засыпающего города.
Жизнь продолжалась.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЛЮДИ
Случилось так, что начальник отдела кадров Сиротин переспал с главным бухгалтером Галкиной. Весть эта мгновенно разнеслась по строительному управлению, сделав участников событий предметом всеобщего внимания и пересудов. В течение целой недели строительный департамент напоминал растревоженный улей, и это не на шутку взволновало руководство, ломавшего голову в поисках применения рабочей силы и добывания денежных средств.
- Ну что, птицы мои поднебесные, доигрались! – сказал начальник управления, в упор глядя на робко стоящих перед ним «виновников смуты». – Превратить служебную командировку в амур-лямур!
- Позвольте! – возмущёно колыхнулась тучным телом Галкина.
- Не позволю! – оборвал её шеф, с гневом бросив карандаш на заваленный бумагами стол. – Не позволю, Капитолина Фёдоровна! Не могу позволить! И рад бы, да не могу. Должность не позволяет!.. Вы же государственные люди, и так…
- Извините! – взвизгнул, стоявший на вытяжку худой, как жердь, Сиротин. – Вас не совсем правильно ин… ин… ин…, - его напрочь заклинило и он только крутил перед собой сухими и длинными руками.
- Да правильно меня информировали, Михаил Иванович! – договорил за него начальник. – Куда уж правильней! А вы ведь, если мне не изменяет память, уже дедушка!.. Да, голуби мои сизокрылые, подбросили вы мне задачку. Ребус, так сказать!
Начальник встал, обошёл «голубей», постоял с минуту напротив, улыбнулся и потеплевшим голосом сказал:
- Ну, хоть сейчас под венец!.. Да уж сидите вы!
Галкина смахнула с пухлой щёчки слезу и вновь села рядом с Сиротиным. Тот вскочил и пересел от неё через два стула. Начальника это развеселило, но он быстро взял себя в руки и строго сказал:
- Значит, так! Я вам, конечно, приказать не могу, не те нынче времена. Но совет дать обязан: кончайте это дело! Любовь, она, понятное дело, в любом возрасте.… Как там у Пушкина? Но ведь не в служебное же время, не на работе же!
Начальник, похоже, опять начал сердиться.
Худосочный Сиротин сидел молча, низко опустив голову с жидкой растительностью на макушке, и поразительно напоминал вопросительный знак.
«Как же они там, в машине-то?» - подумал начальник, переводя взгляд на необъятную фигуру главбухши.
- Как же вы там, в машине-то? – спросил он, глядя поверх очков.
- А это они всё! – вскинулся Сиротин, худым подбородком показывая в сторону Галкиной.- Давай, да давай, говорит, в машине…
- Ну, уж нет! – полный праведного гнева взгляд Капитолины Фёдоровны вонзился в Сиротина. – Я была против… сначала! Сначала вы мне предложили это! Давай, мол, прямо здесь! Чего, мол, стесняться! И шофёра подговорили!..
- Шофёра?! – очки у начальника стройтреста поползли на лоб. – Так ещё и шофёр с вами… это…
- Да, и шофёр! Капитолина Фёдоровна неожиданно резко встала и начала метать фразы-копья в сторону кадровика, протыкая воздух толстым пальчиком.
- Да, и шофёр… Навалились вдвоём – спасу нет: давай да давай!.. Я ведь женщина!..
Галкина быстро замахала платочком перед вспотевшим лицом и продолжила с удвоенной энергией:
- А первый – вот он! Ничего, говорит, страшного! В тесноте, говорит, да не в обиде! Ну и… В общем, вы теперь всё знаете! – она вновь смахнула выступившую слезу и с дрожью в голосе закончила: - До сих пор всё тело болит! Всю ночь спать не давали! Самим-то, небось, хорошо: развалились на первом сиденье, курят, да пиво трескают!..
- Постойте! – начальник поднял вверх руки, как перед летящим на него локомотивом. – На первом сидении… пиво… Так вы что, не были…
- Почему, были! - в один голос воскликнули кадровик и бухгалтер.
- Ну и…
- И переспали! – шагнул вперёд Михаил Иванович. – То есть переночевали. Прямо в машине… Дождь ведь, как из ведра!.. Мы – впереди, она – сзади!..
Начальник управления обхватил руками голову, и некоторое время сидел неподвижно. Затем откинулся на спинку кресла и глухо сказал:
- Идите!
- Что? – в один голос спросили сослуживцы.
- Идите! – повторил шеф без энтузиазма в голосе. – Работать пора!.. И завтра готовьтесь в командировку!..
Да, нелегко быть государственным человеком!
МИЗЭРАБИЛЕ ДИКТУ
Говорят, что двух одинаковых людей не бывает. Скорее всего, это так. И даже хорошо, что именно так, а не иначе.
Ведь что бы могло быть, если бы кто-то вдруг оказался как две капли воды похож на вас? Или на соседа Ивана Петровича, постоянно небритого и «стреляющего» у всех «полтиннички»? Или на соседку Нину Сергеевну, которая в курсе всех ваших дел и считает своим долгом дать совет, как поступить в той или иной ситуации? Или... Да что там говорить, скверная могла бы получиться история!
Лука Сергеевич Сократов не мог иметь в этой жизни человека, который бы хоть чем-то на него походил. Индивидуален он был во всем: в мыслях, в манере говорить, в увлечениях, в походке, в причёске – во всём. Даже имя, как вы могли заметить, имел весьма необычное. Кстати, в паспорте у него было записано не просто Лука, а Лукреций. Остается тайной, что подвигло родителей дать мальчику столь замечательное имя. Но любовь к латинскому языку, древнегреческой мифологии и истории он, как говорится, впитал с молоком матери.
Конечно, имя Лукреций вызывало не только восторги, как, скажем, у девушек-паспортисток, но и недоумение. А порой и раздражение. Вследствие этого наш герой без особого с его стороны возражения в повседневной жизни стал называться Лукой Сергеевичем. Хотя, и говорил иногда: «мизэрабиле дикту», что в переводе с латинского означало «достойно сожаления».
Лука Сергеевич обладал неукротимой энергией. Теща, женщина тоже весьма экспрессивная, называла зятя то вулканом, то протуберанцем, то гейзером. Но чаще – клоуном. А то и просто придурком. Покручивая пальцем у виска, она говорила своей меланхоличной дочке: «Ему в цирке выступать, а не семью кормить! Ладно бы на башке по утрам стоял, а то ведь вчера козу домой приволок!»
Случай с козой действительно имел место быть. Но исключительно, по словам Луки Сергеевича, в целях научного эксперимента.
«Коза, - говорил он, охваченный новой идеей, - это такое животное, которое в любых условиях, даже городских, может давать в два, а то и в три раза больше молока, нежели корова! Я вам это докажу!»
Эксперимент, в силу объективных причин, до конца доведен не был. Но Лука Сергеевич не отчаивался: появилась кошка, которую непременно нужно было научить говорить «ма-ма». К тому же, второй год ждал приложения рук пылящийся в кладовке «перпеттум мобиля». Да и «геликоптер» на даче тоже нужно было доводить до ума. «Моменто морэ!» - объяснял свое поведение этот энергичный и неунывающий человек, добавляя по-русски: «Помни о смерти, но успевай всё при жизни!»
Но жизнь, к сожалению, так уж устроена, что и энергичные люди иногда попадают в самые нелепые истории.
Произошло этои с нашим героем.
Как вы уже поняли, Лука Сергеевич был человеком увлекающимся и в достижении цели просто одержимым. Если уж влетела ему в голову какая идея, то всё его существо охватывала лихорадка нетерпения, деятельного восторга и вдохновения. Он становился похож на большую мощную птицу, смело летящую чётко проложенным курсом.
Случилось так, что на кафедру востоковедения, которой имел честь заведовать тридцативосьмилетний кандидат наук Лукцерий Сергеевич Сократов, на должность преподавателя арабского языка поступила выпускница престижного вуза Галина Борисовна Олиферова. Это явление не осталось незамеченным не только на кафедре, но и во всем университете, А то, что это было явление, и явление замечательное - несомненно.
Галина Борисовна, Галочка, представляла собой редкий сплав женской красоты, обаяния и ума. В её лице, с припухлыми по-детски губами и родинкой на левой щеке, совершенно замечательными были глаза. Слегка раскосые, как на картинках китайских художников, они с необычайной силой притягивали к себе. Взглянув в них однажды, невозможно было остаться равнодушным. Эти глаза покоряли, брали в плен, лишали душевного покоя и равновесия.
Пышные каштановые волосы этой юной богини каждый день были уложены в новую прическу. На невысокой и стройной фигуре любая одежда смотрелась безукоризненно, выглядела модной и изящной.
Не только студенты, но и преподаватели останавливались и провожали главами это «само совершенство», когда оно с гордо поднятой головой и ослепительной улыбкой появлялось в университетских коридорах.
Лука Сергеевич не сразу влюбился в нового преподавателя. Вернее, сначала это была не любовь, а скорее удивление, восхищение, восторг. Был даже некоторый испуг. Любовь возникла позже, во время субботника, когда Галина Борисовна, Галочка, продемонстрировав обворожительную улыбку, попросила у Луки Сергеевича грабли. Заведующий кафедрой почувствовал, как теплый свет, исходящий из глаз преподавателя арабского языка, мгновенно проник в его сердце, и что-то там повернул, словно ключиком.
Дальнейшие события развивались, как в тумане. Лука Сергеевич вдруг ощутил, что земля плавно уходит у него из-под ног. Он потерял ориентацию в пространстве и судорожно стал глотать влажный апрельский воздух. Все вокруг как-то очень быстро потеряло свои реальные очертания. Всё утратило смысл. Кроме одного - этой молодой женщины, сгребающей прошлогодний мусор.
Остатками сознания Лука Сергеевич силился понять, что с ним происходит, пока, наконец, не сообразил, что в него вселилась новая страсть, новая идея, новая... Нет, любовью он это не называл. Вернее, боялся называть. И все-таки, это была она, Её Величество Любовь!
«Господи, - думал Лука Сергеевич, - да как же это? Да ведь я же...». На мгновение в воспаленном мозгу возникли образы жены, тещи. «А, может, это сон, - уговаривал себя заведующий кафедрой, - и сейчас всё исчезнет! Вот сейчас...». Но ничего не исчезало, а наоборот, всё больше входило в него – властно и настойчиво.
Справедливости ради надо сказать, что подобное душевное смятение для Луки Сергеевича не было новым. Нечто подобное случалось всякий раз, как только появлялось что-нибудь неизведанное, загадочное, то, что обязательно надо было постичь, освоить, подчинить своей воле. Подобный сердечный трепет ему был знаком, но чтобы с такой силой - впервые. Наверное, похожее состояние испытывают космонавты, когда спускаемый аппарат входит в плотные слои атмосферы. Так же, наверное, трясет и бросает из стороны в сторону. А в груди - волнение, тревога, жар.
Находясь во власти нахлынувшего на него чувства, Лука Сергеевич за три дня изменился до неузнаваемости. Он почти перестал есть, пить, во сне бормотал несвязные фразы. В середине ночи вскакивал с постели и долго сидел на кухне, куря одну сигарету за другой.
Жене вскоре надоело мужнино шараханье, и она с раздражением спросила:
- Когда прекратишь дергаться?! Или снова козу нашел?
Лука Сергеевич побледнел и живо ответил:
- Какую козу? При чем тут коза? Никакой козы я не нашел, просто...
- Что - просто? - разошлась жена, видя, что муж чего-то не договаривает. - Что -просто?.. Вот только приведи кого в дом - выгоню любую скотину!
- Она не скотина! – вскричалЛука Сергеевич, и осекся.
- Ах, все-таки нашел кого-то! - жена уперла руки в бока и запрокинула голову. – Ну, так вот, знай: ни коз, ни кошек, ни собак, ни свиней в доме моем не будет! Свиней - особенно! - она ткнула указательным пальцем в грудь мужа. - Понял?
Лука Сергеевич хотел, было, привычно сказать «понял», но вдруг перед его мысленным взором возникло прекрасное лицо Галины Борисовны, Галочки.
Он встал и молча удалился в свою комнату.
Заперев за собой дверь, Лука Сергеевич сел к письменному столу, взял чистый лист бумаги, ручку и стал писать. Дважды он комкал и сжигал над пепельницей неудавшиеся варианты, и лишь после третьей попытки успокоился и закурил.
Вот текст письма.
«Дорогая Галина Борисовна! Галя!
Возможно, Вы сочтёте мой поступок дерзким и возмутительным, но прошу Вас, дочитайте это письмо до конца.
Меньше всего я хотел бы выглядеть в Ваших глазах доморощенным Дон Жуаном, ловеласом, ищущим случайных встреч. Увидеть Вашу усмешку для меня - смерть. И не только моральная. Но я не могу больше бороться с самим собой. Я не могу не сказать Вам, что я Вас полюбил. Да, я Вас люблю!
Теперь я знаю, в Вашей воле наказать меня презреньем, ненавидеть и не замечать. Но я всё-таки надеюсь, что Вы, хоть каплю жалости храня, дадите мне надежду видеть Вас, думать о Вас, любоваться и восхищаться Вами.
Без Вас не только наука, но и сама жизнь для меня бессмысленны. Поймите меня и не сердитесь. Моя судьба в Ваших руках!
Л. С.»
На следующий день утром Лука Сергеевич незаметно положил свое послание в верхний ящик письменного стола преподавателя Олиферовой.
А еще через полчаса в его кабинет вошла сама Галина Борисовна и просто сказала:
- Лука Сергеевич, после третьей пары вы можете, в принципе, проводить меня домой.
У бедного заведующего кафедрой отошла от лица кровь, и он сделался белый, как стена, на которой висел портрет Цезаря, нарисованный самим Лукой Сергеевичем.
Почувствовав неладное, Галина Борисовна торопливо прибавила:
- Я согласна!.. Согласна я!..
Через две недели Галина Борисовна разрешила называть себя Галей. С тем лишь условием, что она - пока! - будет звать Луку Сергеевича по имени-отчеству.
- Все-таки вы мой начальник! - с улыбкой сказала Галя, и они весело рассмеялись.
Незаметно пролетелмесяц май с первыми грозами и появлением молодой зелени.
Лука Сергеевич ежедневно провожал Галю до её дома, где они пожимали друг другу руки и прощались, повторяя по нескольку раз: «До завтра!».
Но энергичного и деятельного Луку Сергеевича такие взаимоотношения удовлетворить, разумеется, не могли, и он решил перейти в наступление. «Цели ясны, задачи поставлены, - за работу, товарищи!» - повелел он себе фразой ушедшего в небытие государственного лидера.
Плацдарм для наступления выбирать не приходилось. Им, естественно, должна стать Галочкина квартира.
В один прекрасный день, провожая Галю домой, Лука Сергеевич сказал:
- Да, кстати, послезавтра у меня день рождения. Так что, сударыня, с вас - подарок! Дорогих я не принимаю, а вот в гости пригласить вы меня просто обязаны. Договорились?
- Договорились! - в тон ему ответила Галя. - Только мне надо маму куда-нибудь... Впрочем, я соображу.
Лука Сергеевич был счастлив.
И вот, впервые за два с лишним месяца их знакомства, онстоял на пятом этаже перед Галиной квартирой и нажимал кнопку звонка.
Галя была ещё краше прежнего. От неё невозможно было оторвать глаз. Она вся была какая-то домашняя, уютная, милая. Лука Сергеевич невольно залюбовался ею. Заметив это, девушка несколько смутилась, отчего стала еще привлекательней.
В комнате, куда Галя провела своего гостя, был накрыт большой стол. Сервировка его слегка удивила Луку Сергеевича, но он решил не придавать этому значения. Да и кощунственно задерживать на чём-то внимание в присутствии такой женщины.
Поистине Галя сегодня была неотразима. Глубокое декольте вязаной кофточки и короткая джинсовая юбка не на шутку взволновали молодого ученого. Ему страстно захотелось заключить Галю в объятия и целовать, целовать...
Галя внимательно посмотрела на Луку Сергеевича, подошла к нему и нежно сказала:
- Все будет хорошо! Потерпи, дорогой!..
Она впервые сказала это слово - «дорогой». И прозвучало это такой музыкой, что у Луки Сергеевича перехватило дыхание от любви и восторга. Необычная радость овладела всем его существом, он почувствовал себя совершенно счастливым человеком. «Господи, - подумал он, - да не снится ли мне всё это?.. Как, все-таки, прекрасно жить на белом свете!».
Между тем Галя усадила его на диван и тихо сказала, показывая на стол с закуской:
- Это всё потом, а сначала мы с тобой... - она приложила свой указательный пальчик к его губам. - Сначала - сюрприз! Хорошо?
Лука Сергеевич кивнул головой и сглотнул подступившую к горлу слюну.
- Я сейчас выйду в другую комнату, - продолжала Галя жарким шепотом, - а через две минуты войдешь туда ты. Понимаешь?
Он опять кивнул и судорожно вздохнул.
- Не раньше, чем через две минуты! - повторила Галя, загадочно улыбаясь. - Не раньше! Хорошо?
И, послав воздушный поцелуй, скрылась за дверью.
Лука Сергеевич зачем-то посмотрел на часы, затем снял их и положил на журнальный столик. Затем, словно очнувшись, быстро снял рубашку, брюки и положил их на диван. Затем снял носки. Помедлив немного, он снял майку и трусы. Обойдя два раза вокруг стола, он вздохнул и вновь натянул трусы.
«Интересно, одноместная у нее кровать или двухместная? - подумал он, вглядываясь в циферблат настенных часов, - Лучше бы двухместная!».
Подняв грудь и расправив плечи, Лука Сергеевич открыл дверь и отважно шагнул в комнату.
B тот же миг он остановился, оглушенный дружным многоголосием: «Поз-драв-ля-ем! По-здрав-...».
Кто-то еще успел сказать слог «ля», но «ем» уже не сказал никто. Почти все сотрудники кафедры - мужчины и женщины, с подарками и цветами, - открыв рты, с изумлением смотрели на стоящего в одних трусах своего руководителя. Впереди всех находилась Галя в своей декольтированной кофточке и с ужасом смотрела на виновника торжества. Сцена так сильно напоминала финал гоголевской комедии, что Лука Сергеевич неожиданно для себя улыбнулся и хриплым голосом произнес:
- К нам едет ревизор!..
Затем слегка поклонился, как обычно делал это в конце своих лекций, и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.
Во всё время, пока он одевался, из соседней комнаты никто не вышел и не донеслось ни единого звука.
«Что-то затянулась немая сцена! - подумал Лука Сергеевич, выходя из квартиры. - Неужели моя фигура способна ввергать в шок таких образованных людей? А если бы я трусы снял?»
Между вторым и третьим этажами ему встретилась старушка, которая спросила, сколько времени.
- Мизэрабиле дикту, бабуся! - ответил ей Лука Сергеевич, многозначительно поднимая вверх указательный палец.
- Сколько, сколько? - переспросила бабушка, с удивлением глядя ему вслед.
- Мизэрабиле дикту! - уже внизу крикнул Лука Сергеевич и приветливо помахал женщине рукой.
- Эх, молодость! - проговорила старушка. - Все бы им хулиганить с пожилым человеком! А с виду - образованный!..
Этих слов Лука Сергеевич слышать уже не мог, поскольку в глубокой задумчивости шагал по улице, повторяя, как заведённый, одну и ту же фразу: «Мизэрабиле дикту, уважаемые коллеги, мизэрабиле дикту!».
Окружающий мир, между тем, приобретал реальные очертания.
ЯПОНСКИЙ МЕТОД
Однажды в троллейбусе, возвращаясь с работы, Борис Тимофеевич Пырин стал невольным слушателем одного разговора. Беседовали двое интеллигентного вида людей. Один говорил:
- Мудрейший народ эти японцы! Ты представляешь, что они придумали, чтобы не нарушать сбалансированность производства, вернее, производственных отношений? В жизни не догадаешься! У нас ведь как: ты - начальник, я – дурак. И наоборот. У них - нет! У них вообще нет дураков, а уважение друг к другу записано в Конституции. Но если уж не нравится кому-то какой-то руководитель, то он не кричит об этом на каждом углу, не поливает его грязью на профсоюзном собрании, а придёт домой, поставит перед собой портрет этого человека и начинает говорить ему разные комплименты. Заметь, не грубит, не хамит портрету, а говорит ласковые слова. И делает это до тех пор, пока сам не почувствует любовь к этому человеку. В результате неприязнь к начальнику проходит, и восстанавливаются нормальные деловые отношения...
Этот рассказ так поразил Бориса Тимофеевича, что ещё в троллейбусе он стал представлять, как говорит всякие любезности портрету своего непосредственного начальника Новикова, и ему стало не по себе.
В ту же ночь Борису Тимофеевичу приснился весьма странный сон. Ему снилось, что идёт он в праздничной колонне на Первомайской демонстрации и несёт в руках большой портрет своего начальника. Несёт его не на длинной палке, как все, а перед собой, словно икону. Борису Тимофеевичу портрет кажется страшно тяжёлым и он, пройдя трибуны с руководителями, ставит его у какого-то дерева и хочет уйти. Вдруг вслед ему раздается скрипучий и неприятный голос начальника Новикова:
- Не-ет, милаша, так не пойдет! Ты, милаша, бери-ка меня на ручки, да неси куда следует!
Оглянувшись, Борис Тимофеевич видит, что с портрета, ехидно улыбаясь, манит его пальцем начальник и хрипловато приговаривает:
- Давай-давай, милаша! Труд облагораживает человека! А потом зайдешь ко мне в кабинет!
Во сне Борис Тимофеевич на слабеющих ногах безропотно подошел к портрету и вновь водрузил его себе на грудь.
Наяву же портрет заведующего хирургическим отделением областной поликлинической больницы висел на большой Доске почета в городском парке культуры и отдыха. На этой Доске большинство портретов были с подрисованными усами, бородами, очками и курительными трубками. Не минула чаша сия и заведующего отделением Новикова Михаила Александровича.
Городской парк находился рядом с поликлиникой, где работали два наших героя. Михаил Александрович стеснялся проходить мимо своего портрета, зато Борис Тимофеевич шел на работу всегда городским парком. Он делал это для того, чтобы пройти мимо портрета с гордо поднятой головой, снисходительно посматривая в его сторону.
Получалось так, что портрет своего начальника хирург Пырин видел ежедневно. С той лишь разницей, что в будни, проходя мимо него на работу или с работы, он говорил портрету разные нелицеприятные слова вслух, а в выходные дни, гуляя в парке с женой и дочкой, делал это мысленно.
Свое неприязненное отношение к начальнику Борис Тимофеевич всячески скрывал и, надо сказать, это ему удавалось. Он морщился, но поддакивал, когда жена говорила о Новикове:
- Михаил Александрович – прекрасный человек, чуткий, отзывчивый. Повезло тебе, Боря, с начальником.
Рассказ о японском методе не давал Борису Тимофеевичу покоя.
«Надо попробовать!» - решил он и стал вынашивать план добывания портрета.
Однажды, проходя мимо Доски почёта, он, как бы невзначай, потрогал щит, на котором была фотография заведующего хирургическим отделением, и понял, что снять портрет не составляет труда.
«Ну что ж, будем готовиться к операции!» - подумал хирург высшей категории, и с хорошим настроением зашагал на работу.
Жену Бориса Тимофеевича, строгую и решительную женщину с восточными чертами лица, насторожило желание мужа - купить велосипед.
- Ты же никогда не занимался спортом, - говорила она, заставляя мужа смотреть ей в глаза. - Чего это вдруг?
- Не занимался, а теперь думаю попробовать, - уклончиво отвечал Борис Тимофеевич. - Вон, в Японии, все на велосипедах ездят.
- Так ты же не в Японии, - пыталась возразить жена, но, зная настырность мужа, махнула рукой и дала «добро».
Две недели ушло на то, чтобы научиться ездить и исправлять «восьмерку» переднего колеса. Еще месяц - на изучение правил дорожного движения.
Вскоре Борис Тимофеевич, удлиняя маршрут своих поездок, наконец, понял, что может без особых приключений махануть на своём двухколёсном друге до городского парка и обратно.
В один прекрасный день в пять часов утра хирург Пырин был уже на ногах. Жена, привыкшая к его раннему подъему, продолжала досматривать сны.
Натянув тренировочный костюм и кроссовки, Борис Тимофеевич оседлал велосипед и покатил по безлюдным улицам просыпающегося города.
С приближением к парку в его душе зародилось сомнение – то ли он делает? Это сомнение скоро переросло в страх. Захотелось вернуться домой и оставить затею с японским методом. Но ноги сами собой продолжали крутить педали.
«Позору не оберешься, если узнают» - думал Борис Тимофеевич, подъезжая к парку.
В столь ранний час в парке не было ни души. Даже пенсионеров, делающих зарядку. Это придало уверенности действиям хирурга. Оглянувшись несколько раз по сторонам, Борис Тимофеевич прислонил велосипед к железобетонному основанию Доски почёта и снял портрет своего начальника.
- Гражданин, что вы делаете? - раздался сзади спокойный, уверенный голос. - Вы зачем портрет сняли?
Страх сковал все тело Бориса Тимофеевича, и он застыл в согнутом положении, не в силах повернуть голову.
- Вы зачем сняли портрет, я спрашиваю? - приблизился голос.
Борис Тимофеевич, скосив глаза, увидел синие брюки с красным кантом, и ему захотелось провалиться сквозь землю.
- Вы что - художник? - продолжал блюститель порядка. - Вы портреты снимаете на реставрацию? Давно пора! Давайте, я вам помогу.
С этими словами милиционер подошел к соседнему портрету, у которого были нарисованы будённовские усы, и снял его, приставив к портрету заведующего хирургическим отделением. Затем он снял ещё несколько портретов с «особыми приметами» и аккуратно поставил их у ног Бориса Тимофеевича. Взяв из дрожащих рук неподвижно стоявшего хирурга длинный шпагат, милиционер быстро и ловко привязал портреты к багажнику велосипеда.
- Ну, вот и все! Теперь - хоть куда! - удовлетворенно проговорил добровольный помощник. - А далеко ли ехать-то?
- Д-далеко, - стуча зубами, ответил Борис Тимофеевич. - В-вернее, н-не очень...
- Тогда - в добрый путь! - весело сказал милиционер, подводя велосипед к всё ещё не пришедшему в себя Пырину. Затем взглянул на трясущиеся руки Бориса Тимофеевича и сказал:
- Вчера, наверное, позволили себе? Ну, ничего, у художников это бывает!
Крепко пожимая руку Бориса Тимофеевичу, милиционер кивнул на Доску почета и добавил:
- Спасибо Вам, а то ведь срам смотреть!.. Да разве за всем-то уследишь! Счастливого пути!
Борис Тимофеевич нетвердой походкой повел велосипед к выходу из парка.
Через две недели на собрании, посвященном Дню медицинского работника, к скромно сидевшему Пырину подошел заведующий хирургическим отделением Новиков и, широко улыбаясь, громко сказал:
- Это что же Вы, милаша, молчите? Ишь, скромник какой! А ну-ка встаньте, встаньте, пусть на вас все полюбуются!
Михаил Александрович энергично взял за плечи ставшего белее собственного халата хирурга и повернул его лицом к аудитории.
- Друзья мои! - продолжал улыбаться заведующий отделением, - Я должен открыть вам страшную тайну!
Чувствуя лихорадочную дрожь в плечах своего подчиненного, Михаил Александрович тихо проговорил:
- Да не волнуйтесь вы так, милаша! Я же всё знаю!
Затем, не отпуская плеч съежившегося хирурга, продолжал:
- Друзья мои! Вот этот скромный человек, наш с вами товарищ, совершил благородный поступок!
Все с интересом посмотрели на перепуганного насмерть Пырина.
- Может, сам расскажешь? - опять тихо спросил заведующий отделением.
Пырин отрицательно покачал опущенной головой.
- Этот человек, - Михаил Александрович сделал паузу, во время которой голова Бориса Тимофеевича склонилась ещё ниже, - этот человек... самостоятельно... за свой счет... отреставрировал городскую Доску почёта!
Говорил заведующий отделением медленно, с большими паузами, а последние слова произнёс громко и торжественно, чем вызвал бурную овацию. Аплодировали стоя. Раздались крики:
- Молодец! Браво! Так держать, Борис Тимофеевич! Ура Борису Тимофеевичу! Знай наших! Качать его!..
Борис Тимофеевич обалдело крутил головой, видя обращенные к нему восторженные лица.
- Спасибо!.. Спасибо вам!.. Большое спасибо! - лепетал он, боясь поверить в происходящее.
Ото всюду тянулись к нему руки улыбающихся коллег.
Торжественное собрание, обещавшее быть, как всегда, скучным, заканчивалось на высоком эмоциональном подъёме. Девушки из регистратуры преподнесли Борису Тимофеевичу огромный букет гладиолусов, оставив на щеках хирурга характерные узоры.
Высвободившись из дружеских объятий, Борис Тимофеевич, красный от волнения, подошел к своему начальнику и срывающимся голосом произнес:
- Я вам… я вас… Спасибо! Спасибо вам!
Михаил Александрович вновь взял за плечи кланяющегося, как китайский болванчик, Пырина и сказал:
- Ну что вы, что вы, милаша! Это же вы сами!.. Я тут ни при чем!..
Борис Тимофеевич, придя домой с букетом цветов, рассказал жене о японском методе сохранения производственных отношений. Затем он долго и с восторгом говорил о замечательном человеке и прекрасном руководителе Михаиле Александровиче Новикове.
СМЕРТЬ ДРАМАТУРГА
У писателя Хмелевского был творческий кризис. Даниил Иванович знал, что равнодушие к писанию повестей и рассказов пройдет, и он с прежней увлеченностью пустится в описание отчаянных схваток современных Пинкертонов с преступниками, томительных засад и стремительных погонь, в результате которых будет наказано зло и восторжествует справедливость.
Как вы уже догадались, Хмелевский был писателем детективного жанра. Читающей публике он был известен под псевдонимом Диамат Нахлебников.
За годы литературной работы из-под пера Даниила Ивановича вышли в свет несколько повестей с интригующими названиями, два сборника остросюжетных рассказов о героических буднях советской милиции и небольшая книжечка лирических стихов. За детективную повесть «Кто застрелил Муразо?» он был отмечен специальной премией правоохранительного ведомства тогдашнего, казалось, незыблемого Советского Союза.
В канун неудавшегося государственного переворота у Даниила Ивановича вышла небольшая остросюжетная повесть «Сломанный зуб», и он поехал в столицу презентовать ее своим многочисленным друзьям и знакомым. В третий, самый критический для демократии день, водоворот событий свел рыцаря детективного сюжета с известным всему миру виолончелистом. Результатом непродолжительного знакомства была преподнесенная Даниилом Ивановичем знаменитому зарубежному соотечественнику книга с дарственной надписью.
Даниил Иванович, вернувшись в родной город, задумал написать большое произведение, может быть, даже роман о событиях, участником которых волею судеб ему пришлось быть.
Неожиданно для самого писателя все его впечатления вылились в многоактную пьесу. Отпечатанную рукопись Даниил Иванович отнес завлиту местного драмтеатра. Через некоторое время ему позвонил режиссер и предложил встретиться, сказав, что ему «в целом пьеса понравилась, но надо утрясти некоторые моменты».
Хмелевский-Нахлебников считал, себя не новичком в литературе, с законами драматургии был знаком и заранее воспротивился «утрясению моментов». Тем не менее, в назначенные день и час встреча писателя и режиссера состоялась, и они с искренней теплотой пожали друг другу руки.
- Вы, как я понимаю, впервые пишете для театра, - сказал режиссер, предлагая Хмелевскому закурить. - Дело в том, что у вас, как у всякого начинающего драматурга, встречается ряд погрешностей в сценическом построении, поведении персонажей... Воды, как говорится, многовато и надо бы повыжать.
Даниил Иванович поморщился при слове «начинающего», и это не ускользнуло от режиссера.
- Вы не обижайтесь, бога ради, - миролюбиво, даже несколько извиняющимся тоном проговорил он, глядя на Хмелевского сквозь затемненные стекла больших роговых очков. - Пьеса мне, в целом, действительно, понравилась. Есть очень удачные находки. И главное, события сегодняшнего дня...
Режиссер, молодой еще человек, с копной каштановых волос и в модной джинсовой курточке, как-то сразу не произвел на Даниила Ивановича ожидаемого впечатления. Его уверенный громкий голос и манера разговаривать раздражали Даниила Ивановича, не давали сосредоточиться. Да еще эти очки...
- Разумеется, разумеется! - вежливо ответил Хмелевский, стараясь разглядеть выражение глаз собеседника.
- Вот и прекрасно! - заключил режиссер.
С этими словами он раскрыл лежащую перед ним папку с рукописью пьесы и взял из большого узорчатого стакана красный фломастер.
- Надеюсь, вы со мной согласитесь, что название пьесы надо изменить, - произнес режиссер таким тоном, как будто все уже было решено. - Сегодня «Баррикадами» зрителя в театр не привлечешь. Во-первых, слишком в лоб, во-вторых, такое уже было!
Он безжалостно округлил название пьесы и поставил два знака вопроса.
- Кстати, - продолжал режиссер, покручиваясь в кресле, - Диамат Нахлебников, это что - псевдоним ваш?.. Давайте не будем!
Вокруг псевдонима, ставшего писателю дорогим и близким, молниеносно затянулась красная петля и был поставлен восклицательный знак.
«Что он делает! - подумал Даниил Иванович, удивленный и раздосадованный бесцеремонностью режиссера. - Что он себе позволяет, мальчишка! По очкам бы ему!»
- Да, да, конечно, конечно! - выдавил сквозь зубы Хмелевский.
- Идем дальше! - тряхнул шевелюрой режиссер и перевернул страницу.
Коротко взглянув на писателя, он продолжал: - Что вы тут нагородили с массовыми сценами?! Откуда я вам возьму столько людей?!
Когда на массовых сценах был поставлен кроваво-красный крест, Даниил Иванович судорожно глотнул воздух и протянул вперед руку, выговорив с трудом:
- Да, но позвольте, это же - улица, площадь!..
- А у меня театр, храм культуры! - спокойно парировал режиссер.
Немного подумав, он зачеркнул ещё двух действующих лиц.
Даниил Иванович съёжился и опустил голову. Фломастер, который ему казался сначала скальпелем в руках умелого хирурга, теперь виделся исключительно ножом в руке безжалостного убийцы.
- Значит, так! – продолжал говорить режиссер, вращая фломастером. - Реквизит на баррикады я, пожалуй, найду, а вот фасад Дома правительства давайте убирать!
Жирный красный крест лег почти на целую, страницу.
- Простите, но там же происходят основные события, - слабо попытался возразить побледневший Даниил Иванович, - там же...
- Ничего там у вас не происходит! - бесцеремонно сказал режиссер. - Надо учитывать специфику театра! Не могу же я, как Эйзенштейн, показать в театре Потемкинскую лестницу со съезжающей по ней детской коляской... А танки-то зачем?! Ну, поставлю я пару муляжей на сцену, так актерам играть негде будет! Вы тут предлагаете выход из зала. Да старо это и неинтересно!.. В общем, всю эту батальную сцену мы сократим!
Даниил Иванович молчал, опустив голову. Такого вольного обращения с собой, такого издевательства над своим произведением ему не могло присниться в самом кошмарном сне.
Усмехнувшись, режиссер продолжал:
- В уста великого музыканта вы вкладываете такое, что никак не сообразуется с его интеллигентностью и оскорбительно для публики. Он что, правда, так выражался?
- А здесь вообще всё - правда! - с вызовом ответил Даниил Иванович.
Не замечая обидчивости автора пьесы, режиссер продолжал:
- Хорошо. Но так обзывать людей, пусть даже путчистов, и посылать их в различные части тела - просто неприлично! Нет, тут нас не поймут!
Внезапно необыкновенная жалость к своему творению охватила Хмелевского, и он с нескрываемым раздражением резко произнес:
- А ещё где нас не поймут? А ещё чего нам кажется неприличным? Ещё чего нам сократить?..
Режиссер впервые за время их беседы снял очки и внимательно посмотрел на писателя. Даниил Иванович увидел, что глаза у режиссера грустные и усталые, и выглядит он вовсе не таким уж уверенным, злым и жестоким, а наоборот - добрым и беззащитным. Неприязнь и раздражение в Данииле Ивановиче как-то сразу утихли и он, покраснев, пробормотал:
- Прошу меня извинить... Я, конечно, понимаю. Если так нужно, то... Сцена есть сцена.
Продолжая внимательно смотреть на Хмелевского, режиссер надел очки и сказал:
- У меня к вам вот какой вопрос, коллега, - он почему-то Даниила Ивановича назвал коллегой. - Вы знакомы с погодинской пьесой «Человек с ружьем»?
- Ну, в общих чертах!..
- В каком смысле?
- Исключительно по кино!
- Так вот, должен вам сказать, что вы с товарищем Николаем Погодиным написали две очень похожие пьесы, если не сказать - одинаковые. В некоторых местах - один к одному. Не хватает только названия – «Человек с автоматом»!..
Даниилу Ивановичу вдруг стало как-то скучно и неинтересно. Стало стыдно, как будто его уличили в нехорошем деле.
А режиссер продолжал:
- Нечто подобное, коллега, было и в моей жизни, - он перевернул последний лист рукописи, откинулся на спинку кресла и вновь снял очки. - И смех, и слезы, как говорится... В юности я написал пьесу, поскольку ни о какой другой профессии, кроме драматургии, не мечтал. Что скрывать, хотелось стать знаменитым. Пьеса, кажется, была о войне. Естественно, было много героики, самопожертвования, стрельбы и всего прочего. Режиссер прочитал мой опус и спрашивает: «Ты какую книгу последний раз читал?» Я ему отвечаю: «Разгром» Александра Федеева. А что?» - «А то, - говорит, - что к фадеевскому «Разгрому» у меня претензий нет, а вот тебе маленький разгром, думаю, пойдет на пользу!». Ну, и сами понимаете... Вот такая история, коллега. Поучительная, надо сказать, история. Смешно, правда?
- Да, очень! - сказал Даниил Иванович, забирая со стола папку с рукописью. - Прощайте!
- До свидания! - поправил его режиссер, выходя из-за стола и протягивая руку. - Всего самого доброго! Творческих вам успехов!
Всю дорогу до самого дома Даниил Иванович шел, словно в забытьи, в такт шагам мысленно повторяя одно и то же слово: «Раз-гром, раз-гром!..».
Путь, которым шел Даниил Иванович, был неблизким. Ему, наконец, надоело повторять слово «разгром» и он стал успокаиваться.
«А что, собственно, произошло? - думал он, открывая дверь в квартиру. - Да ничего и не произошло! Наоборот, новый вклад в творческую копилку! Вот так-то! Все впереди у нас с тобой!».
Последнюю фразу Даниил Иванович пропел слух.
В прихожей радостным мяуканьем встретил писателя кот Мстислав. Взяв его на руки, Даниил Иванович широкими шагами стал ходить по комнате, весело приговаривая:
- Ах, ты мой дурачок! Ты же ничего не знаешь! Ты же не знаешь, что разгром - это смешно! Разгром - это очень и очень смешно! Это прекрасно! И вообще, все очень даже замечательно!
Затем, посадив кота на колени, он сел за письменный стол, взял чистый лист бумаги и крупными буквами написал: «Диамат Нахлебников. Роман. «Баррикады».
Слово «Баррикады» он подчеркнул и поставил два восклицательных знака.
Настроение было приподнятое. Как всегда, когда созревало новое произведение.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЧТЫ
У каждого человека есть своя голубая мечта, к осуществлению которой он стремится всю жизнь, иногда принося в жертву самое сокровенное.
Виктор Сергеевич Курочкин очень хотел попасть в книгу рекордов Гиннеса. Желание это зародилось давно и не давало ему покоя. А в последнее время даже лишило сна.
Отдавая себе отчет в том, что реализация мечты потребует от него, может быть, сверхусилий, Виктор Сергеевич, тем не менее, ни на минуту не сомневался в успехе и тщательно искал для этого пути, средства и методы.
Свои физические данные он оценивал весьма скромно, хотя и имел второй разряд по настольному теннису, полученный восемнадцать лет назад, когда он учился в школе с математическим уклоном.
Попытки доказать теорему Ферма и изобрести вечный двигатель были оставлены им на втором курсе института, а создать свою «загадку века» пока не удавалось. Увидеть же собственное имя на страницах знаменитой книги постепенно стало смыслом всей его жизни.
Внешне это был самый обыкновенный человек среднего роста, худощавый, носящий на остроносом лице очки с толстыми стеклами, и слегка заикающийся в минуты волнения. В свои сорок с небольшим лет Виктор Сергеевич был необычайно сентиментален. На индийских фильмах, которые просто обожал, он украдкой от жены смахивал слезы.
У супругов Курочкиных, к общему их огорчению, детей не было. Но обитало в этой семье одно живое существо, которое молодые супруги страстно любили и всячески оберегали. Это была кошка, вернее, котенок, подаренный друзьями Гите Хайдаровне, супруге Виктора Сергеевича, на день рождения. Имени у котенка не было, и, определив пол, Виктор Сергеевич сразу предложил назвать его Зитой. Под восторженные аплодисменты Виктор Сергеевич произнес:
- Друзья! Вы присутствуете при рождении русского варианта индийского кинофильма «Гита и Зита»!
Потом Виктор Сергеевич и Гита Хайдаровна часто говорили друг другу, что лучшего подарка они в жизни не получали.
Кошка Зита, тем временем, быстро росла, доставляя огромную радость супругам. Вечером с ней гулял Виктор Сергеевич, утром выбегала на зарядку Гита Хайдаровна. После вечерних прогулок втроём садились на диван и рассматривали фотографии, привезенные Гитой Хайдаровной с различных фестивалей и конкурсов. Виктор Сергеевич, поглаживая кошку, ласковым голосом говорил:
- Вот это, Зитуля, наша мама со своими девочками на фестивале в Архангельске. Нравится тебе, Зитуля, наша мама?
Кошка щурила глаза и одобрительно мурлыкала.
Почти каждый вечер Гита Хайдаровна уходила на репетиции в Дом культуры, где её ждал вокальный ансамбль «Вдохновение», а Зита, свернувшись калачиком на коленях Виктора Сергеевича, терпеливо ждала, когда он отложит газету и они отправятся гулять.
Мечта попасть в книгу рекордов Гиннеса для учителя математики Виктора Сергеевича со временем стала как-то тускнеть, отходить на задний план и обещала вовсе угаснуть. Но произошло то, что круто изменило размеренную жизнь супругов Курочкиных.
В один прекрасный вечер, впустив нагулявшихся мужа и кошку в дом, Гита Хайдаровна задумчиво сказала:
- А ты знаешь, дорогой, ведь у нас скоро будут дети!
Виктор Сергеевич вздрогнул, уронил пальто и бросился к жене.
Г-гита, р-родная моя, п-повтори, что ты с-сказала!
От волнения Виктор Сергеевич стал заикаться, лицо сделалось пунцовым.
- Дети, говорю, у нас скоро будут, - повторила жена, показывая на кошку. - Котятки маленькие!
Виктор Сергеевич расслабленно опустился на диван и приложил ладони к вискам.
- Г-гита, н-ну нельзя же так, п-право! Что за шутки!
- Да какие уж тут шутки! - ответила Гита Хайдаровна, внимательно наблюдая за кошкой, трущейся у её ног. - Какие уж тут шутки, если живот на лоб лезет!
Затем взглянула на побледневшего мужа и добавила:
- А ты чего так разволновался! Не тебе же рожать!.. А у нас, баб, это бывает!
Виктор Сергеевич укоризненно посмотрел на жену, и весь вечер потом выглядел задумчивым и рассеянным.
Прошло несколько дней.
Однажды вечером, когда жена ушла на репетицию, Виктор Сергеевич позвал кошку, чтобы совершить обычную в это время прогулку. Но кошка не отозвалась. Смутная тревога зародилась в душе Виктора Сергеевича, когда Зита не появилась и на повторное «кис-кис». Он стал искать ее по комнатам, заглядывая во все углы. Кошки нигде не было. Заглянув под кровать, Виктор Сергеевич скорее почувствовал, чем увидел затаившуюся в углу кошку и сразу все понял.
В сильном волнении он несколько минут метался по комнате, не зная, что предпринять. Затем схватил плащ и выбежал на улицу.
Вахтеру в Доме культуры показалось, что мужчина в расстегнутом плаще пьян, и попытался остановить его. Но Виктор Сергеевич, не замечая ничего вокруг, ворвался прямо в репетиционный зал. Он выглядел настолько встревоженным, что Гита Хайдаровна сама бросилась к нему, требуя объяснить, что случилось.
- Г-гита, не-не-немедленно домой! С-с-скорее! П-п-понимаешь, там Зита... Зита...
- Что - Зита? Что с ней? - Гита Хайдаровна схватила за руки мужа, пытаясь понять причину столь сильного волнения. - Да говори же ты толком!
Виктору Сергеевичу принесли стул и подали стакан воды. Всё тело его тряслось, как в лихорадке, зубы стучали.
- Гита, там Зита… Зита!.. Она, к-кажется, р-родила!..
- О, господи! - с облегчением выдохнула Гита Хайдаровна и, неожиданно для себя, перекрестилась.
Только через два дня кошка Зита вышла из своего укрытия, и супруги Курочкины не узнали её, настолько она была худа и слаба.
Всё время, пока Зита с жадностью поглощала заранее приготовленную ей пищу, из-под кровати доносилось тонкое попискивание.
На следующий день, когда Виктор Сергеевич в обеденный перерыв забежал домой, увидел озабоченное лицо жены.
- Что случилось, Гита? - спросил он, оглядывая комнату. - Где Зита?
- Зита там, где ей и положено быть - у детей своих, - ответила супруга, задумчиво потирая подбородок. - Тут дело вот в чем... Как бы тебе объяснить?.. Уникальный случай, я узнавала... Как ты думаешь, сколько у Зиты детей?
- Ну, я не знаю... Пять?.. Шесть?..
- Двенадцать! Двенадцать, дорогой мой!
- Ну и что? Это что, плохо?
- Да не плохо, а случай неординарный!.. Рекордистка она у нас, чемпионка! Понимаешь?
Слово «рекордистка» заставило Виктора Сергеевича вздрогнуть и задуматься.
- Рекордистка, говоришь? Чемпионка? П-понимаю!
Гита Хайдаровна внимательно посмотрела на мужа.
-Ты что задумал, Виктор? Не дам!
Виктор Сергеевич рассмеялся, затем с упреком сказал жене:
- Ну как ты могла такое подумать, Гита?! Ни в коем случае! Жить и только жить!
С этими словами он достал записную книжку и нашел номер московского телефона…
После необходимых формальностей с регистрацией и оформлением рекорда, семья Курочкиных лишилась покоя. Потоку корреспондентов всех мастей, казалось, не будет предела. В конце концов, Курочкины отключили телефон и перестали обращать внимание на звонки в дверь.
Мало-помалу ажиотаж вокруг уникального случая с рождением дюжины котят у одной кошки и занесением этого факта в Книгу рекордов Гиннеса начал спадать. Жизнь возвращалась в спокойное русло. Но однажды произошел курьезный случай.
Собравшись, как обычно, вечером на прогулку со всем своим мяукающим семейством, Виктор Сергеевич открыл дверь и увидел соседа из квартиры напротив, пытающегося попасть пальцем в кнопку их звонка. Попытки были безуспешными, и открывшаяся дверь заставила его расплыться в благодушной улыбке. Покачиваясь и еле ворочая языком, сосед изрек:
- Сергеич, ты... это... Твоя Гита... Не, твоя Зита... В общем, они с моим Леопольдом... это… как его... Ну, ты понял, благодаря кому она рекордистка?..
Виктор Сергеевич уже был готов попросить соседа прийти завтра, но Гита Хайдаровна все поняла и, выйдя из-за спины мужа, спросила:
- Сто рублей хватит?
- Нет вопросов! - быстро ответил сосед и, спрятав деньги, молниеносно исчез.
В тот же вечер Виктор Сергеевич, сидя на диване в окружении двенадцати пушистых комочков, поглаживал сидящую на коленях кошку и говорил:
- Вот мы какие! Мы не просто так, мы - в Книге рекордов!..
В общем, если чего-то сильно захотеть, то вполне можно добиться.
ВОДОЛАЗ ПОНЕВОЛЕ
По просёлочной дороге, поднимая клубы пыли, мчался милицейский мотоцикл с коляской. За рулём сидел в гражданской одежде капитан милиции Сергей Александров, имевший у криминального элемента и в дружеском кругу прозвище «Серый». В коляске с широко раскрытыми от страха главами и в милицейском шлеме восседала Зина, жена Сергея. Сергей громко пел, перекрывая высоким баритоном шум мотора: «Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю, нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю...».
Каждый раз, когда мотоцикл сильно подбрасывало вверх, он прерывал песню и кричал, наклоняясь к обожаемой супруге:
- Всё в порядке, Зинуля! Всё в полном порядке!..
Супруга ничего, естественно, в ответ произнести не могла, лишь судорожно держалась за края мотоциклетной коляски и открытым ртом хватала упругий летний воздух.
Ничего не видела и не слышала бедная Зина. Она с ужасом думала о том, что скоро им придется подъезжать к узенькому мостику через довольно глубокую речку Тоймину. Она знала, что если попросить мужа ехать потише, мотоцикл помчится с ещё большей скоростью, и тогда...
Горяч был капитан милиции Сергей Александров! Ох, горяч! «Поуйми характер-то, - говорила ему тёща, - норовистый, как конь необъезженный! Неровен час, снесут башку-то, прости, господи!». Мнение тёщи разделяли даже некоторые сослуживцы талантливого офицера милиции.
За голову свою Сергей не опасался, а вот над характером работал упорно и целенаправленно. Результаты аутотренинга не замедлили сказаться, и он довольно быстро пошёл вверх по служебной лестнице. В тот день, с которого начался рассказ, за рулём сидел старший инспектор отдела по борьбе с преступностью в сфере экономики.
Природа щедро одарила Сергея различными достоинствами. Кроме того, что это был симпатичный молодой человек с пышной шевелюрой, он обладал незаурядными музыкальными способностями. Ни один смотр художественной самодеятельности, концерт или фестиваль по линии МВД не проходили без участия исполнителя русских народных песен и романсов капитана милиции Александрова. Популярность его росла вместе с исполнительским мастерством, что, надо признать, нисколько не мешало службе. Наоборот, творчество возвышало его душу, вселяло уверенность и прибавляло оптимизма. Множество лауреатских званий не сделали Сергея заносчивым и высокомерным. Казалось, он был совершенно лишён честолюбия. Сослуживцы и начальство любили его за сердечную доброту, открытость и невероятную работоспособность.
Надо полагать, судьба готовила этому незаурядному, энергичному человеку... Впрочем, мы не можем знать, что готовила ему судьба. Да и он об этом не задумывался. Зачем это знать, если жизнь столь восхитительна! Так прекрасен восход и закат солнца! Так обворожительно поют птицы и пахнут травы! Так очаровательна улыбка любимой женщины, её глаза, руки, волосы, её голос!
Не хотелось Сергею Александрову в тот предвечерний час сбрасывать скорость своего мотоцикла. Вся его неуёмная натура, получившая шенкеля в виде четырех рюмок водки, противилась этому. А чего особенного - со свадьбы едет человек! Хоть и на служебном мотоцикле, но в выходной день! Друга закадычного, товарища по работе Стасика Жохова, такого же, как и он, капитана милиции провожал «в последний путь». Тем более, что и «последний путь» был свой, родной - Варенька Малышева из экспертно-криминалистического отдела. Гуляли в деревне, откуда родом были наши друзья и где сейчас проживали родители Стаса. Замечательная получилась свадьба. Весёлая и в меру пьяная. Можно бы и ещё погулять, но только два дня выделил шеф капитану Жохову «на всё это дело», - служба!..
Тем временем стрелка спидометра милицейского «Урала» прыгала около цифры «семьдесят», а его хозяин во всё горло продолжал «гнать велосипед».
Потеряв на какое-то время над собой контроль, Сергей совершенно забыл, что в конце березового перелеска с небольшим поворотом дорога выходит на узенький мост через Тоймину. Вчера днём он проезжал этот деревянный мостик, но на первой скорости. Да и вообще, сколько раз он его переезжал туда и обратно! Но сейчас он совершенно отчётливо понял, что вписаться в габариты моста ему не удастся.
Сергей молниеносно оценил обстановку и, крикнув: «Зина, держись!» - направил мотоцикл мимо моста прямо в воду. Подняв огромный фонтан брызг, «Урал» вместе со своими пассажирами скрылся в пучину вод. Через некоторое время лишь небольшое облачко пара выдавало место «срочного погружения». Но вскоре вслед за воздушными пузырями на поверхности воды показалась голова Сергея. Выражение лица его было ужасно. С широко открытыми глазами он стал оглядываться по сторонам и кричать не своим голосом:
- Зина-а! Зина, где ты?.. Где ты, Зиночка-а?..
Затем он сделал резкий вдох и нырнул головой вниз, как делал это тысячу раз в детстве на этой же самой реке, в этом же самом месте.
Через полминуты его голова вновь, словно пробка, выскочила на поверхность.
Ныряние и призывы постепенно делались всё менее энергичными, время нахождения под водой сократилось до нескольких секунд. С каждым появлением над водой глаза Сергея становились всё безумнее, а голос тише и безнадёжнее.
Наконец, его полностью оставили силы. Перевернувшись на спину, он раскинул руки и, обливаясь слезами, по воле волн поплыл прочь от страшного места...
Внезапно с правого берега он услышал знакомый голос:
- Ты чего тут расплавался, каскадёр несчастный? А где мотоцикл?
Сначала Сергей подумал, что это начались галлюцинации, что он сходит с ума, что это ангелы небесные над ним потешаются...
- Вылезай, тебе говорят! - вновь явственно донеслось с берега. - Это в новом-то костюме!
Сергей медленно повернул голову и увидел стоящую на берегу жену. Не веря своим глазам, он молитвенно сложил руки и пошёл под воду, пуская пузыри. Когда вынырнул, вновь услышал божественную музыку жениного голоса.
- Ты что, издеваться решил? Или ты утонуть решил в день свадьбы друга? - Зина медленно шла по берегу за проплывающим мимо мужем.
- Зина! - завопил Сергей, вернувшись, наконец, к реальности бытия. - Зина! Это - ты? Дорогая!.. Это - ты? Ты?..
Он выскочил на берег, подбежал к жене и стал, лихорадочно трогать её руки, голову, плечи, приговаривая:
- Это - ты?.. Дорогая! Это - ты?.. Ты не утонула? Не утонула?.. Это ты?..
Поведение мужа, с которого ручьями лилась вода, не на шутку встревожило Зину.
- Что ты хочешь этим сказать? - спросила она, стараясь заглянуть в глаза Сергею. - Ты хочешь сказать... Ты думал, что я утонула? Ты это хочешь сказать?..
- Да! Нет! Да!.. Я думал… - приходя в себя, бормотал Сергей. - Какое счастье! Счастье-то какое, господи! - слезы опять полились из его глаз.
- Счастье или несчастье, об этом потом! - сказала Зина, которой стали надоедать причитания мужа. - А мотоцикл где? Уж не утопил ли?
- Утопил! Утопил, Зиночка! - радостно заговорил Сергей. - Утопил я его... Слава богу!
- Что - слава богу? - не поняла жена. - Утопил-то, что ли, слава богу?
- Нет!.. Да!.. Нет, конечно!.. То есть... Слава богу!
- Ну, хватит! - резко сказала Зина. - Раздевайся! Сушить тебя будем!
Она стала помогать мужу снимать пиджак, брюки, рубашку, рассказывая, как ещё до поворота при толчке её выбросило из коляски, и она «мягким местом» приземлилась на совершенно чудесным образом оказавшуюся там большую копну сена.
- А ботинки где? - вдруг спросила Зина, осматривая вещи. - Тоже утопил?
- Утопил! - покорно ответил Сергей, продолжая стучать зубами. - Утопил!.. Слава богу!..
Зина внезапно рассмеялась, подошла к мужу, прижала его мокрую голову к своей груди и нежно сказала:
- Уж не верующим ли ты стал, водолаз ты мой ненаглядный? В святой купели побывал?.. Ну и ладушки!
Так, обнявшись, они стояли некоторое время и плакали. Затем сложили непросохшие вещи Сергея в один узел и, не спеша, пошли через узкий деревянный мостик в сторону города.
Справа пламенел закат, а на восточной стороне неба, далеко-далеко, появились две маленькие звёздочки. Звенящую тишину изредка нарушали далёкие гудки электричек.
В глазах идущих по пыльной дороге мужчины и женщины светилась тихая грусть. Лица их были прекрасны. В эти минуты они были одни на всём белом свете. А земля вокруг рождала для них необычайной прелести запахи, заставляя любить каждую травинку, каждое дерево, далекий неведомый космос, друг друга и самих себя.
Утро следующего дня капитан Александров посвятил «профилактическому осмотру» мотоцикла, который всю ночь омывали воды неширокой реки Тоймины. Настроение, как всегда, было приподнятое, и Сергей вполголоса напевал: «Я буду долго гнать велосипед...».
С невысокой березки, стоящей рядом, ему подпевала какая-то маленькая птичка.
День обещал быть тёплым и радостным.
ИСЦЕЛЕНИЕ
По росистой тропинке, ведущей к небольшому лесному озерку, стремительно продвигается человек с удочками. Лицо его, тронутое щетиной, выглядит усталым, но преисполнено вдохновения. Глаза горят. На лбу шишка.
Зовут человека Веня Хантанов. У него сегодня праздник. У него день рождения. Не в прямом смысле, а... Впрочем, все по порядку.
Много лет назад тридцатидвухлетний зоотехник свиноводческого комплекса, построенного ещё на заре перестройки, Веня Хантанов попал в зависимость. Это он так говорил, что «попал в зависимость», «пристрастен к вредным привычкам», «пагубная страсть» и так далее. На самом же деле, он просто пил. Пил сильно. И никаких тормозов, никакого удержу для него не существовало.
А началось всё это ещё до того, как весёлый смуглолицый парень Венька Хантанов женился на симпатичной девушке из деревни Вокшары Ниночке Лохиной.
Во все времена русский мужик был не дурак выпить. И в городе, и в деревне. Редко кто мимо рта рюмочку проносил. Трезвенников сторонились, не уважали. Пьянства особого, надо сказать, не было. Но если находился незначительный повод или просто предложение – мигом «соображали»? Преступлением, чрезвычайным происшествием, как в начале перестройки, это не считалось. Без жадности люди пили, с чувством, создавая праздник душе и телу. Но зато праздники, особенно престольные, - другое дело. Там всякое было. Да и то сказать - святое дело!..
И понравилось скромному и застенчивому парню после «причащения» чувствовать себя весёлым, остроумным, смелым и сильным. А мужики похваливают, поглядывают одобрительно. Ровней себе считают, закурить предлагают... Ну, как тут молодой башке не закружиться?
В общем, с этого и началось. И пошло-поехало, понеслась душа в рай!
Нина сначала посмеивалась и не обращала внимания, когда Веня, шумный и по-взрослому пахнувший водкой, приходил к ней, и они целовались до утра в её комнате. Затем пьяные виражи жениха стали круче и чаще, ласки короче, слова грубее. Родители, да и соседи порой, стали говорить: «Смотри, Нинка, выходить ли тебе за Вениамина-то? Пьет ведь!..».
Через два месяца после прихода из армии, на Спасов день, состоялась свадьба демобилизованного младшего сержанта и симпатичной девушки Нины Лохиной. Три дня гуляла вся округа. Три дня рекой лилась самогонка и самодельное пиво в луженые глотки мужиков и баб. Песни орали так, что слышно было километра за четыре. А уж плясали под гармошку - весь дом ходуном ходил!..
Жуткое веселье было раньше на свадьбах! Гуляли, как будто в последний раз! Мода, что ли была такая? Или время такое было? Хотя, мода всегда шла в ногу со временем...
Через год после свадьбы у молодых родился первый ребенок - мальчик. Еще через год родилась девочка. Вот тут-то и понесло Веню Хантанова во все стороны разгульной жизни. Дня не проходило, чтобы не случалось ругани в их доме. Нина как-то незаметно превратилась в нервную, худую и крикливую деревенскую бабёнку с сеточкой морщин на загорелом лице. Пронзительный её голос вперемежку с детским плачем стал в деревне привычным явлением, как петушиная песня по утрам. Вениамин же, если приходил домой сам, падал, где попало, и храпел до утра, матерясь во сне и скрежеща зубами. Утром у него страшно болела голова, во рту «эскадрон ночевал», и он мало что помнил. Солью на эту открытую рану, как правило, был визгливый голос жены: «Паразит, долго ли мучить-то нас будешь? Морду твою пьяную видеть не могу!»
Веня, делая вид, что его не волнуют оскорбительные выражения жены, пил из большого ковша холодную воду, улыбчиво кивал детям и уходил на работу.
Постепенно всё его поведение стало подчиняться одному - где и как достать «наркоз».
Впервые мысль о самоубийстве постучалась в похмельную голову Вениамина, когда Нина, забрав детей, на две недели ушла к матери в свои Вокшары. Мысль была неожиданной, пугающей, но в чём-то и успокаивающей, как бы дающей какой-то шанс.
Но через два дня, когда жена вернулась, он снова впал «в крутой вираж»...
Итак, то утро, с которого началось повествование, было воскресным. Вчера Нина истопила баню, вымыла детей, сама напарилась, и втроём они улеглись спать. Была слабая надежда, что муж придет с работы пораньше и не очень пьяный, чтобы отправить в баню и его: не топить же дважды. Но Веню, словно мешок с картошкой, принес домой конюх из Ямушина одноглазый дядька Игнат, и бережно положил у порога.
Сказав «извиняйте», дядька Игнат вытер кепкой вспотевшее лицо и ушёл. Нина же подошла к лежащему без признаков жизни мужу и трижды звонко ударила его по небритым щекам, сопровождая каждый удар словом «паразит».
Утром Веня проснулся от того, что его тащили за ноги.
- Ну-ка, развалился тут! - резко говорила жена, бесцеремонно оттаскивая его от печки, в которой уже горел огонь. - Людям проходу нет!..
Вениамин вдруг вспомнил сказку про бабу Ягу, которая хотела посадить в печь братца Иванушку, и ему сделаюсь весело.
- Ты чего это рожу-то свою пьяную скалишь, а? - спросила жена, подходя к нему с небольшим ухватом в руках. - Хватану сейчас по бесстыжим-то бельмам, чтобы не хахалился! Хочешь, паразит? - и, не дожидаясь ответа, сильно ткнула ухватом в грудь мужа. Веня схватил концы ухвата и со словами: «Оборзела, что ли?» - вырвал его из рук жены. Тогда Нина, резко повернувшись к печке, схватила приготовленное на растопку березовое полено и с небольшим замахом метнула его в сидящего на полу мужа. Вениамин в последний момент выставил вперед ухват, защитив тем самым мозги от неминуемого сотрясения. Видя, что вторая попытка по причинению мужу телесных увечий не достигла цели, Нина вновь повернулась к печке и стала доставать из нее уже горящее с одного конца полено, приговаривая:
- Пусть меня посадят, а тебя, паразита, все равно жизни лишу!
Вениамин, как ошпаренный, вскочил с пола, бросил ухват и выскочил на улицу.
Запущенное женой полено все-таки задело свою жертву, и сейчас на Венином лбу вздувалась шишка. Настроение было самое, что ни на есть, отвратительное. Мучила жажда. Все тело дрожало, как в лихорадке. Хотелось лечь и ни о чем не думать. Хотелось уснуть, чтобы больше не проснуться никогда. Чтобы не слышать и не чувствовать этих оскорбительных криков, унизительных побоев, похмельной слабости и дрожи в коленках. И чтобы нашли его, уснувшего вечным сном, где-нибудь на дороге, и сообщили жене. И чтобы она, крича и заламывая руки, упала на остывающее тело и просила прощения у него, мертвого, за своё безобразное поведение...
Вениамин не заметил, как из его глаз пололись слезы жалости к самому себе, в груди что-то запрыгало, в горле образовался сладкий комок.
Он сел прямо на землю, обхватил голову руками и минут пять плакал, как ребенок, освобождая душу от накопившейся обиды.
Наконец, успокоившись, встал, отряхнул брюки и поднял лицо к небу. День обещал быть безоблачным и жарким. «Ну куда мне теперь? - подумал он, прислушиваясь к звукам просыпающейся деревни. - В петлю, что ли?».
Сладкий комок опять подкатил к горлу. Порывисто вздохнув, Иван медленно пошел прочь от своего дома.
Уже при выходе из деревни он вдруг ощутил в себе странное чувство. Это было не что-то конкретное, определенное, как, например, страх, радость или гнев. Нет, это было многослойное, сложное чувство. Оно вмещало в себя и нежность, и любовь, и чувство вины, и стыд, и досаду, и жалость, и много чего ещё. И всё это было направлено к его жене, к матери его детей, к его Нине, которая стоит сейчас у печки, управляясь с чугунами и ухватами, усталая…
Вениамин резко повернулся и быстро зашагал назад, к дому. В сенях он остановился, прислушался. Хотел постучать, но раздумал. Оглянулся и увидел стоящие в углу удочки. Ах, сколько же времени он не брал их в руки! Сколько же лет прошло, когда он последний раз таким же летним утром, переполняясь восторгом, разматывал леску на берегу дымящегося туманом озерка. Ах ты, мать честная, да когда же это было! И было ли вообще?..
Веня схватил удочки, поднес их к глазам, зачем-то понюхал, и бросился на улицу.
Узнавая и не узнавая дорогу, он почти бежал по направлению к заветному водоёму.
Еще издали он услышал, как плещется в озерке рыба, и сердце его наполнилось необыкновенной радостью. Если бы в эту минуту кто-нибудь увидел его лицо, восторженные глаза, непременно бы подумал, что этот человек самый счастливый на всем белом свете. Впрочем, так оно, наверное, и было!..
Дрожащими от волнения руками Веня перевернул трухлявое бревно, быстро насобирал червяков и сел под наклонившейся над водой старой березой. Затем снарядил крючки, проверил поплавки, грузила, закинул удочки и стал ждать.
Мало-помалу волнение, с которым он примчался к озерку, улеглось, и мысли, одна другой неожиданней, стали приходить в Венину голову.
«А ведь права она! - думал Вениамин. - Во всем права! Это ж надо - пить столько времени, да еще права качать! Это уж точно - убить мало!..»
Он вдруг поймал себя на мысли, что впервые задумался о жизни, и даже вздрогнул от этого.
«Но что же произошло? - соображал он, задумчиво наблюдая за поплавками. - Что могло случиться?»
Веня положил руку на лоб, потрогал шишку, и вдруг вскочил от поразившей его догадки! «Ну конечно! Как же я раньше-то не сообразил? Это же всё давно наукой доказано! У человека есть такие определенные зоны, при воздействии на которые... В общем, если бы не полено...»
Сломав березовую ветку, Веня насадил на нее пойманных карасей, смотал удочки и зашагал к дому.
«Нет, уважаемые товарищи, - думал Вениамин, обращаясь к воображаемой публике, - что ни говорите, а Бог есть! Ведь не заулыбайся я тогда на полу... Или промахнись она поленом - и всё! И не произошло бы во мне этого сдвига, этого чуда! И не нормализовалось бы ничего!.. Ох, не зря, видно, бабка Маня в прошлом году говорила, что из таких, как я, дурь поленом вышибать надо!..»
День клонился к закату. На душе у Вениамина было радостно. Жизнь начиналась вновь.
СКАЗКИ ШАХЕРЕЗАДОВА
Шахерезадов на цыпочках прошёл в свою комнату, быстро разделся и лёг на диван, укрывшись большим клетчатым пледом.
В тот момент, когда первые лёгкие волны сна коснулись его утомлённого организма, дверь резко распахнулась и в комнату вошла жена. Иван Игоревич сильнее зажмурился и начал похрапывать. Для убедительности он почмокал губами, пофыркал и пробормотал что-то невнятное в надежде, что жена оставит его в покое.
- Явился, сказочник! – голос у жены был спокойным и ласковым, отчего по спине Шахерезадова побежали мурашки. – Ну, и что же мы услышим на этот раз? – голос у спутницы жизни начал крепчать. – Какую лапшу сегодня нам собираются повесить на уши? Какого арапа нам сегодня будут заправлять? Какую туфту…
- А вот и не лапшу! – Шахерезадов резко повернулся к жене, придавая лицу строгость и обиженность. – А вот и не арапа! И не туфта это никакая, а…
- А Зинка Брызгина из планового отдела! – металлическим голосом договорила жена, беря со стола тяжёлую стеклянную пепельницу.
- Что – Зинка?! Какая такая Зинка?! Причём тут Зинка?! – возмущённо затараторил Шахерезадов, откидывая плед.
Жена, шагнувшая было к нему с занесённой над головой пепельницей, внезапно остановилась, и брови её поползли вверх, как в мультфильме.
- Трусы! – выдохнула жена. – Трусы!
- Что - трусы? Какие трусы? – забеспокоился Шахерезадов.
- Трусы на левой стороне! Убью, гад! – с этими словами жена резко подняла руку и метнула пепельницу, которая тяжело ударилась о спинку дивана рядом с взъерошенной головой мужа.
- Стой! – в ужасе завопил Шахерезадов, дрыгая ногами.- Стой! Это не так! Это не я! Я всё объясню! Как на духу!
Жена всхлипнула, села к столу и закрыла лицо руками.
- Маша, выслушай меня! – Иван Игоревич быстро заходил по комнате. – Ты же меня чуть не убила! Ещё бы сантиметр и привет!
- Жаль, что не привет! – супруга встала, чтобы уйти, но Шахерезадов остановил её.
- Сядь, ты должна знать правду! Я не хочу, чтобы между нами были недомолвки! – он покосился на лежащую на диване пепельницу. – Я хочу тебе рассказать…
- Очередную сказку про белого бычка! – перебила его супруга. – Или что-нибудь из тысяча и одной ночи с Зинкой Брызгиной?
- Маша! – Шахерезадов положил руку на плечо жены, но тут же опасливо отдернул. – Маша, это не сказка. Это быль. Но похожа на сказку. В общем, это почти фантастика. Я бы сказал – научная фантастика. Ты любишь Стругацких? Нет, я о писателях. Жаль, но тогда пусть это называется «Весьма поучительная история,
которая приключилась с инженером Ш»…
- Бабником и вруном, который приходил домой в трусах наизнанку! – с издёвкой добавила жена.
- Нет, - подхватил Иван Игоревич, - но именно в этом суть истории. Так вот! Жил-был на свете инженер Ш., который сильно любил свою жену…
- Но ещё сильнее – Зинку-плановичку! – снова ввернула жена, но Шахерезадов уверенно продолжал.
- Любил он свою работу и пользовался уважением в коллективе. И вот однажды вызывает его директор и просит встретить иностранную делегацию. Покажи, мол, им завод, поводи по цехам, ознакомь с технологией, погуляй с ними. Ну, как обычно. Инженер, конечно, встретил, показал, поводил, ознакомил, погулял. А они ему: « Баню хотим!». Ну, баню так баню! А в бане, как известно, раздеваться надо.… Вот и вся история!
- А почему ты называешь её поучительной? – спросила жена, вновь беря в руки пепельницу.
- Как почему? Если в бане раздеваются, то после бани одеваются. Так! А если в бане свет вырубили? Тут не только трусы наизнанку наденешь, а, не дай бог, чужое чего напялишь. В общем, теперь у меня есть опыт, который, как известно, сын ошибок трудных. И вообще, ты меня должна пожалеть, потому что бельё на левой стороне – к слезам!..
Шахерезадов не успел договорить, как жена вновь метнула в него пепельницу. Вторая попытка оказалась более удачной, и из глаз Ивана Игоревича посыпались искры. И быть бы, наверное, пожару, если бы не его же слёзы, явившиеся ещё и освежающим дождём на засыхающие супружеские чувства.
Ну, и как после этого не верить в приметы!
НОВОГОДНИЙ ХАЛЯВЩИК
Тридцать первого декабря в девять часов вечера Кузякин вошёл в райотдел милиции.
- Моя фамилия Кузякин! – сказал он дежурному майору, сидящему за стеклянной перегородкой. – Арестуйте меня!
- В чём дело? – недовольно спросил майор.
- Я человека убил! – дрожа синюшной губой, проговорил Кузякин. – Вернее, тёщу. Зарезал! Ножиком! Насмерть! Море крови!
- Ну и зря! – равнодушно сказал майор, с хрустом потягиваясь и аппетитно зевая. – Под Новый год…
- Арестуйте меня скорее! – взмолился Кузякин, видя нерешительность блюстителя порядка. – Вы же внутренний орган, вы обязаны…
- Па-пра-шу не ас-кар-блять! – с металлом в голосе продекламировал майор и забарабанил авторучкой по столу. – Ишь, моду взяли: чуть чего – сразу в милицию! «Убил, зарезал!» - передразнил он Кузякина. Помолчав, добавил:
- А насчёт обязанностей.… Так, что там у вас?
- Я убил… это… человека! - утратив уверенность, пробормотал Кузякин. – Вернее, тёщу! Зарезал! Море…
- Ну, вот что! – майор решительно встал со стула и ткнул авторучкой в сторону Кузякина. – Вы эти ужасы бросьте! Насмотрелись «Ментов в законе»!
- Но я же бандит!.. Убийца! Садист-душегуб! – Кузякин отчаянным жестом стащил с головы шапку и вытер ею вспотевшее лицо. – Меня же за это полагается…
- Что за это полагается, мы… - не договорив, майор подошёл к стеклянной перегородке и, строго глядя в глаза Кузякину, быстро задал три вопроса:
- Когда убил? Где труп? Кто видел?
- В понедельник! На кухне! Никто! – так же быстро ответил Кузякин.
- Та-а-ак! – возмущённо пропел майор. – Три дня бездыханное тело близкого человека лежит в неудобной позе на кухне, а он… Та-а-ак!
Дежурный снова сел на стул, и что-то быстро записал на последнем листке календаря. Затем, не глядя на Кузякина, строго и торжественно сказал:
- Вы, гражданин Кузякин, грубо нарушили сразу несколько положений уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, за что должны понести неотвратимое наказание! Вы готовы понести неотвратимое…
- Готов! – радостно перебил его Кузякин. – Очень готов! Очень…
- Тогда сейчас, - продолжил майор, не замечая кузякинского возбуждения, - вы пойдёте домой, через полтора часа встретите Новый год и проводите старую тёщу, извините за каламбур, в последний путь. А четвёртого января – прошу, как говорится, к нашему шалашу!..
Когда за обиженным и обескураженным Кузякиным закрылась дверь, дежурный майор сказал сидящему за соседним столом капитану:
- И вот так – целый день! То убил, то зарезал, то ограбил, то изнасиловал! Идут и идут! Прямо эпидемия какая-то! Что за народ?!
- Да-а, - раздумчиво ответил капитан, - все хотят Новый год в тепле, уюте да безопасности встретить.
- Так-то оно так! – в тон ему проговорил майор. – Но методы!.. Нет, что не говори, а дежурить на Новый год – хуже нет!
Затем он погрозил кому-то пальцем и строго сказал:
- У-у, халявщики!
НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
Начинающий киллер Гесогенов пришёл домой раньше обычного.
- В чём дело? – строго спросила жена, не допускавшая никакого вольнодумства и своеволия со стороны первокурсника ООО «Высшая негосударственная школа киллеров».
- Отпустили! – буркнул Гексогенов. – Новый год же…
- Не ври! – резко оборвала жена.
- Отпустили! – упрямо повторил будущий укротитель несговорчивых персон.
- Не верю! – в голосе жены появился металл.
- Ты что – Станиславский? – вспылил Гексогенов. – Говорю же – отпустили! Новый год же! Надо же понимать…
- Ты мне жекать-то брось! – вновь прервала жена неуклюжие попытки начинающего профи оправдать своё поведение. – Новый год у него! Новый год придёт и уйдёт, а вот учиться надо всегда! Ещё Ушинский сказал, что ученье – свет, а неученье…
- Культпросвет! – съязвил Гексогенов, на всякий случай отодвигаясь от жены.
- Та-а-ак! – с удивлением пропела супруга. – Интере-е-есное кино!
Не отрывая взгляда от мужа, она медленно извлекла из-под кровати бейсбольную биту.
- Продолжайте, месье! – сказала она голосом учителя, уставшего заниматься с бестолковым учеником. – Я вас внимательно слушаю, мон шер!
Гексогенов знал, что переход жены на французский язык влечёт за собой самые непредсказуемые последствия.
- А что, что ты хочешь от меня услышать? – воскликнул он с дрожью в голосе. – У всех жёны как жёны… Я ей сюрприз приготовил, а она…
Положив биту на диван, жена подошла к Гексогенову и обняла его вздрагивающие плечи.
- Ладно, давай сюрприз!
Успокоившись и просветлев лицом, Гексогенов заговорил:
- Понимаешь, Люся, вычитал я в одной газете, что Новый год в разных странах встречают по-разному. У нас – так, а вот, например, в Японии или Китае – совсем не так. Понимаешь?
- Нет! – откровенно призналась жена. – Что значит «так – не так»? Без шампанского, что ли? Или без водки?
- Ну, при чём здесь водка! – Гексогенов взволнованно заходил по комнате. – Не в водке дело!.. В общем, я предлагаю встретить этот Новый год по-мусульмански!
- Как это? – с любопытством спросила жена.
- Двадцать первого марта! – торжественно произнёс Гексогенов и поднял вверх указательный палец. – В новолуние!
- Ну, это долго ждать! – капризно сказала Люся. – Я не согласна. Тем более, у тебя в новолуние крыша едет.
- Сама ты крыша! – рассердился студент киллеровской школы, но затем миролюбиво добавил: - Ладно, тогда по-японски! Эти Новый год встречают первого января, как и мы.
- Другой коленкор! – согласилась Люся. – А что нужно делать?
- Сущие пустяки! – лукаво улыбнулся Гексогенов. – Стрелять всю ночь!
- В кого? – насторожилась жена.
- В злых духов! – засмеялся студент престижного вуза. – Обряд того требует!
- Вот это по-нашему! – удовлетворённо сказала Люся. – Всегда надо совмещать приятное с полезным. Это ж какая практика тебе будет!..
РЕПОРТАЖ С ЗИМНЕЙ ДАЧИ
- Значит, так! - строго сказал шеф, собрав нашу банду на шестом этаже
своей зимней дачи на Канарах. - Новый год будем встречать на Родине. Берём
банк в Одинцово. Дело верное. Вопросы есть?
- Есть! - сказал Пашка по кличке Пикассо, поигрывая своей огромной гранатой итальянского производства. - А успеем? Новый-то год уже...
- Пашенька! - ласково перебил его шеф. - У нас два самолета, но если ты об этом забыл, то хилять тебе в Россию-мать твою пехом! Понял?
Пашка понял и уронил гранату на ногу Аслану по кличке Казбек, который лязгнул зубами и с криком: «Вай, курва, зачем бомба ураниль!» запрыгал по залу на одной ноге, словно раненый гриф.
Шеф с минуту наблюдал лезгинку подбитого Казбека, затем достал свою «пушку» тридцать восьмого калибра и два раза шмальнул в потолок. Одна пуля срикошетила и попала в бронзовую статую античной женщины с повязкой на глазах по кличке Фемида. Статуя вздрогнула и выронила из рук меч и весы, которые с грохотом упали на косматые головы брательников Вована и Бобана по кличке «Братья Карамазовы». Контуженые братья смешно задрыгали руками и ногами, издавая при этом истошные вопли.
Вторая шефовская пуля попала в крючок, на котором висела большая хрустальная люстра, и та с нежным перезвоном мягко опустилась на лысую голову Коляна по кличке Фантомас. Сразу несколько раскаленных ламп коснулось розовой, как детская попка, Коляновой черепушки. Он взвыл, сорвал с себя люстру и, словно штангу при неудачной попытке, бросил назад. Люстра сразу оказалась на плечах Мишани Шнобеля. Мишаня вскочил и, не снимая с себя люстры, начал бегать вокруг стола, за которым сидел шеф. Во время беготни он ронял все, что попадалось на пути. Сначала грохнулся телевизор, затем целая куча разной японской электроники. После того, как Мишаня оборвал все провода, соединяющие дачу с внешним миром, на пол полетела огромная китайская ваза, про которую шеф говорил с гордостью: «Двенадцатый век, руками не трогать!»
На девятом круге шеф подставил Шнобелю ножку и тот со всего маху вместе
с люстрой врезался в Сергуню Борова. Тот хрюкнул и упал в аквариум с экзотическими
рыбками и четырехметровым нильским крокодилом.
Надо сказать, что, падая, Мишаня Шнобедь умудрился сорвать с головы шефа парик и опрокинуть на колени Феликсу по кличке Ржавый «Тефаль» с кипятком. Ошпаренный Феликс вскочил, как ошпаренный, выхватил из рук Шнобеля парик шефа и с диким воем стал засовывать его себе в штаны, пытаясь унять боль в промежности.
Шэф, усмотрев в поступках Шнобеля и Ржавого Феликса посягательство на свой авторитет, бросился к личному сейфу, где хранился запасной парик, забыв, что уже заложил туда взрывчатку перед отрывом на Родину.
Шандарахнуло так, что шеф в обнимку с бронированной дверцей, пробив стеклянный потолок дачи, одноступенчатой ракетой устремился в манящую голубизну южного неба. Уже с высоты донесся о6рывок фразы, где различимы были слова «манда» и «нары». Вряд ли шеф вспоминал свою магаданскую бурную молодость. Скорее всего, он хотел сказать, что команда должна покинуть Канары. Впрочем...
А банк мы все-таки ломанули. Но делать это пришлось мне с Гришаней по кличке Гнутый, которого шеф послал тогда за ящиком «Кока-Колы». Шеф очень уважал этот напиток. Особенно с воблой. И маринованными грибочками.
А как иначе, русский же, все-таки, человек!
ЗАВОДНОЙ МУЖИК
В нашей стране так долго стирали грань между городом и деревней, что грань эта, в конце концов, исчезла.. Правда, вместе с деревней. Кто-то «наверху» в своё время решил, что для простого советского человека радость может вызывать только труд. Всё это привело к тому, что постановления и указы, направленные на «дальнейшее улучшение жизни и благосостояния советских людей», стали вызывать сначала раздражение, а потом и гнев. Не у всех, конечно.
Так, или почти так, думал Агрегат Спиридонович Коноводов, агроном колхоза «Заря коммунизма», лёжа утром в постели и лениво отгоняя надоедливых мух. Агрегат Спиридонович знал, что мысли, как и мухи, если уж появились с утра, не отвяжутся целый день.
А день был воскресный и вроде как даже праздничный. Агрегат Спиридонович всегда путал Троицу с Пасхой, Спасов день с Ильиным и так далее. Но любой праздник для него в первую очередь был днём размышлений.
Лёжа в постели, Агрегат Спиридонович «шевелил мозгой», как он обычно называл такое своё состояние. Душевное волнение с каждой минутой усиливалось и просилось наружу. Он злился всё больше, отчего мысли его вскоре совсем перепутались. Он не искал причин «бедственного положения народа», никого конкретно не обвинял, но деревню, в которой он прожил всю жизнь, ему было жалко до слез. На глазах пропадала деревня, просто гибла на корню.
- Граня, вставать пора! - сказала жена, подходя к кровати мужа и трогая его за плечо.
- Чего надо? - недовольно отозвался Агрегат Спиридонович.
- Да надо бы воды принести! Девять скоро! Хватит лежать-то!..
Начинающие стареть супруги жили скромно и незаметно. Скучно жили. Это продолжалось до тех пор, пока не грянула перестройка со всеми её «кардинальными изменениями» и «судьбоносными решениями».
Агрегат Спиридонович хорошо помнил то утро, когда он проснулся другим человеком. Внешне он был всё тем же, но внутри произошли необратимые процессы. Он вдруг почувствовал, что надо куда-то идти, с кем-то спорить, что-то доказывать, убеждать, агитировать. Действовать, в общем. Его походка сделалась быстрой и порывистой, лицо озабоченным, в голосе зазвучали властные нотки. Без всякого повода он мог нагрубить незнакомому человеку и даже оскорбить. Своих же, деревенских, кроме как «люмпенами», он и не называл. Слово это посчитали крайне оскорбительным, и вскоре Агрегат Спиридонович получил прозвище – «Заводной». Иногда к нему добавляли приставку «агрегат». Люди говорили:
- Заводной-то Агрегат сегодня опять с утра в магазине черт-те что вытворял! Сладу с ним нет! Верка-то умаялась, поди!..
Родители Агрегата Спиридоновича долгое время не хотели понять, что имя, которым они наградили ребенка во время исторических преобразований в экономике страны, он должен будет пронести, словно крест, через всю свою жизнь. Когда же осознание содеянного все-таки наступило, было поздно что-либо изменить. Но через некоторое время это как-то само собой улеглось и перестало всех волновать, тем более, что вокруг было множество разных Робертов, Гербертов, Индустрий, Виленов и так далее. Правда, оставалось беспокойство за внуков.
Жена Вера после свадьбы больше года вообще не знала, как обращаться к мужу и только после родов первого ребенка, когда Агрегат Спиридонович принес в больницу цветы и фрукты, неожиданно спросила:
- Граня, ты сам-то ел ли сегодня?..
Итак, в то утро Агрегат Спиридонович лежал в своей кровати и думал о том, что никакая перестройка не вернет людей в деревню, что никакие указы и распоряжения правительства не заставят человека работать хорошо и добросовестно, что никакое «Общество трезвости» не отучит народ от пьянства, если всё это будет навязано сверху.
Честно говоря, эти мысли не принадлежали Агрегату Спиридоновичу. Он их то ли слышал, то ли вычитал где-то, но был полностью согласен и поэтому считал своими.
Размышления вновь нарушил голос жены:
- Граня, ты когда вставать-то...
- Да принесу, принесу я тебе воды! - не дал ей договорить Агрегат Спиридонович, натягивая на голову одеяло.
Жена махнула рукой, и начала хлопотать по хозяйству.
Некоторое время Агрегат Спиридонович лежал без всяких мыслей, раздосадованный тем, что так бесцеремонно прервали ход его мыслей. «Воды ей, видите ли, надо! Приспичило! Это в праздник-то!» - думал он, вставая с постели.
Расхаживая в трусах и майке по комнате, Агрегат Спиридонович искоса поглядывал в сторону жены и сердито говорил:
- Вот ты мне скажи, тебя что-нибудь, кроме воды, интересует? Над чем-нибудь ты задумываешься всерьез?
- А чего должно интересовать-то, Граня? - пыталась сгладить ситуацию жена, чувствуя, что супруг начинает заводиться.
Но процесс возбуждения уже овладел Агрегатом Спиридоновичем и руководил всеми его мыслями и поступками.
- А то должно интересовать, что дальше ещё хуже будет! Поняла?
- Поняла, поняла, - миролюбиво сказала жена. - Ты бы оделся, Граня, а то завтрак стынет...
- Ну, вот опять – «завтрак стынет»!
Хлопая себя по бёдрам, Агрегат Спиридонович ощущал, как невидимые приводные ремни в его теле всё сильнее раскручивают шестеренки возбуждения.
- Да что - завтрак! Неужели же только в завтраке дело?!
- А в чем дело-то, Грань?
- А в том, что думать надо! Мыслить надо, соображать!
- Так я же вроде и соображаю, - с некоторой обидой ответила жена. – Завтрак-то...
- Ну, вот опять - завтрак!
- Агрегат Спиридонович заходил по комнате, тряся руками над головой:
- Ну что ты за человек! Сорок лет вместе прожили, а я так и не знаю, что ты за человек!.. Почему газет не читаешь?
- Да когда читать-то мне их, газеты-то?!
- Ах, вот оно что, газеты читать ей некогда!
Агрегат Спиридонович остановился перед женой, уперев руки в бока:
- Так о чем тогда нам с тобой разговаривать, если ты даже не знаешь, что в стране происходит!
- Ну и не разговаривай! – потеряла терпение жена. - Больно я расстроюсь, что ты со мной разговаривать не будешь!.. Есть захочешь - заговоришь! А то...
- Ну вот, к примеру, как ты сейчас со мной говоришь?! Наверное, вода-то не ушла бы никуда, а ты - грубить!.. Нет в тебе, Лизавета, человеческого внимания ко мне! И не было никогда! Теперь я это вижу!
- Ну что ты видишь, что ты видишь! - всерьёз начала сердиться жена. - Вот я вижу, что ты без штанов ходишь...
- Молчать! Не возражать! - стукнул кулаком по столу Агрегат Спиридонович. - Не сметь со мной… Ишь, моду взяла - на мужа орать!
- Ну, понесло! - махнула рукой жена. – Истинно - заводной!
Лицо у Агрегата Спиридоновича покраснело, грудь приподнялась. Вся его фигура выражала благородное негодование.
- Да ты пойми, голова садовая, что сейчас нельзя быть не в курсе того, что происходит!
- А что происходит-то? Ну, что происходит-то, скажи мне, у если я такая бестолковая? - жена тоже упёрла руки в бока и в её голосе появилась решительность. - Перестройка-то твоя, что ли? Так плевала я на неё, понятно?.. И на тебя тоже, если ты сейчас же не оденешь штаны и не сядешь завтракать!
После этих слов Агрегат Спиридонович буквально на глазах стал успокаиваться, скучнеть и становиться как бы меньше ростом. Но приводные ремни по инерции всё ещё крутили механизм завода, и он продолжал утратившим металл голосом говорить:
- Я тебе хочу сказать, Валентина, что надо быть культурной женщиной!..
- Сам-то больно культурный! - не меняя позы, высоким голосом проговорила жена. - Это спать-то до полудня, да мечтать-то о всякой ерунде - он культурный! Ведром-то вот сейчас дам по башке - и вся культура! Хочешь?
Агрегат Спиридонович ничего подобного не хотел. В считанные секунды от былого возбуждения не осталось и следа.
Он быстро оделся, схватил ведра и побежал за водой, напевая в такт движению песенку водовоза из кинофильма «Волга-Волга».
Жизнь входила в привычное русло.
ПРОЗА ЖИЗНИ
В кабинет редактора Бликина без стука ворвался молодой человек в расстёгнутом кожаном пальто.
- Вот… Принёс… - сказал он, переводя дух, и положил перед редактором мелко исписанный лист бумаги.
- Что это? – спросил Бликин, недовольный бесцеремонностью посетителя.
- Стихи, естественно! – обидчиво ответил молодой, не уловив ожидаемого интереса в словах редактора. – Проба пера, как говорится! Наболело!
- Ах, вот как! – окончательно поскучнел Бликин. – Пишете, значит…
- Да вы читайте, читайте! – с плохо скрываемой обидой, уловив настроение редактора, скороговоркой выпалил обладатель кожаного пальто. – Там у меня – всё! Там такое…
- Так вы бы хоть на компьютере напечатали или на машинке, а то ведь… - не сдавался редактор. Но пришелец оборвал:
- На машинке деньги печатают, а это – стихи. Сти-хи! Поняли?
Когда его «поняли», удовлетворённо кивнул, плюхнулся в кресло напротив и закурил.
В клубах дыма некурящий Бликин начал привычно вглядываться в корявые строчки, поминутно поправляя, вставляя или зачёркивая буквы, а то и целые слова. Взору предстало следующее:
Я вышел ночью из дверей,
Была на то причина.
- Снимай пальто, да поскорей! –
Сказал в дверях мужчина…
Бликин поднял на автора улыбающееся лицо:
- Это вы называете стихами? Извините, как вас?..
- Лёва я. Сатрапов… А что, рифмы, что ли, нет?
- Нет, рифма как раз есть, но…
- Тогда читайте дальше! – энергичным жестом остановил редактора Лёва.
Бликин опять углубился в чтение.
Мужик на левое плечо
Кладёт мне сразу лапу
И говорит: - Ну чё ты, чё,
Снимай часы и шляпу…
- Нет, я это читать дальше не буду! – Бликин решительно отодвинул от себя лист. – Какие-то «чё», «лапу»… Да вы хоть знаете…
- Да знаем, знаем! – насупился автор. – Мы-то знаем! А вот вы, кажется, не знаете!
Он резко встал, навис над Бликиным всей своей пахнущей кожей фигурой и торжественным голосом проговорил:
- Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан! Слыхали?.. А то: ля-ля-ля…
- Ну, знаете…
Лёва в упор посмотрел на редактора, пыхнул два раза ему в лицо табачным дымом и ядовито сказал:
- Нет, это даже интересно! Все нравится, а ему нет. А ведь это – жизнь! Жизнь, понимаете?.. Э, да что вы тут понимаете! – с каким-то даже сочувствием проговорил он, глядя на розовую лысину редактора. – Это вам не буря мглою небо кроет, не ласточка с весною… Ладно, разберёмся!
Сатрапов выдернул лист из рук редактора, сунул его за пазуху и хлопнул дверью…
Дней через пять Бликин возвращался домой из командировки. В подъезде, как это часто случалось в последнее время, не было освещения. Отыскав в темноте перила, редактор почувствовал, что в подъезде он не один. Неприятная мелкая дрожь, начавшаяся в области шеи, побежала по спине, ногам и остановилась в пятках. Хриплым от волнения голосом Бликин спросил в темноту:
- Здесь кто?
- Конь в пальто! – эхом отозвалась темнота.
Бликин сразу узнал голос Сатрапова. Но радости от этого не испытал. Вспомнились сатраповские строчки:
Мужик на левое плечо
Кладёт мне сразу лапу…
Когда могучая Лёвина рука легла на хрупкое плечо редактора, тот хотел сказать: «Ну чё ты, чё», но не сказал, а начал снимать пальто. Затем он снял часы, шляпу… В голове крутилось:
Я вышел ночью из дверей,
Была на то причина…
ИСПОРЧЕННЫЙ ПРАЗДНИК
Илья Семёнович Филин люто ненавидел свою фамилию. Дело в том, что с раннего детства и до студенческой поры все, кроме родителей, называли его исключительно по фамилии, что вызывало в нём жуткий протест. «Я не филин, у меня имя есть!» - говорил маленький Илюша, но только усложнял своё положение.
В школе одноклассники, словно сговорившись, тоже называли его по фамилии, что не доставляло ему никой радости, а наоборот, всё больше тяготило и расстраивало. Он был рад и благодарен учителям, которые вызывали его к доске по имени.
Как бы то ни было, но постепенно он стал сторониться сверстников, отдаляться от них, замыкаться в себе.
Неизвестно, чем бы всё кончилось, но спасение от этого кошмара наступило, когда Илья Филин учился на третьем курсе политеха. По телевизору несколько дней подряд транслировали исторические матчи советской сборной с канадскими хоккеистами. Болельщики, отвыкшие от ярких побед мирового уровня, вновь с интересом и восторгом наблюдали виртуозную игру Харламова, Петрова, Мальцева, Якушева и других выдающихся спортсменов. Имя знаменитого канадского форварда Фила Эспозито, спустя тридцать с лишним лет, вновь было у всех на устах. И с лёгкой руки однокурсников Илья Филин в одночасье стал Филом. Прозвище так пришлось по душе нашему герою, что отобрать его можно было лишь вместе с жизнью.
После университета Илья Семёнович, молодой специалист, устроился на работу в автосервис. Жизнь шла своим чередом. Он женился, у него родилась дочка. Иногда звонили институтские товарищи: «Фил, как дела, старик?», «Привет, Фил, надо бы встретиться!». Встречались, выпивали, веселились, вспоминали студенческие годы, преподавателей, пели песни.
Мало-помалу «филинский» период жизни окончательно забылся, раны зарубцевались и утихли.
Это случилось в канун Нового года. Илья Семёнович пребывал в прекрасном расположении духа. Женя на кухне готовила праздничный ужин, дочка ушла навестить подружку к соседям по лестничной площадке.
Достав записную книжку, счастливый муж и отец стал обзванивать друзей и знакомых, поздравлять с праздником. Для всех у него находились тёплые слова, добрые пожелания, шутки и пожелания.
На букву «ш» он обнаружил номер телефона нового шефа, которого ещё в глаза не видел, но слышал, что тот бывает иногда излишне строг и даже грубоват.
- Брызгин слушает! – буркнуло в трубке, и у Ильи Семёновича почему-то засосало под ложечкой.
- Это Борис Сергеевич? – с напускной вежливостью нараспев переспросил Илья.
- Ну! – недовольно рокотнула трубка.
- Это Филин беспокоит! – произнёс Илья Семёнович и внезапно почувствовал сухость во рту.
- Что-о-о?! – загрохотало на другом конце провода. – Какой филин?! Издеваться?..
В трубке послышались короткие гудки, а Илья Семёнович с помутившимся сознанием рухнул в кресло.
- Филя, - встревожено спросила жена, входя в комнату с тарелкой дымящихся блинчиков, - что случилось? Ты почему такой бледный, Филя?..
- А-а-а! – дико завопил Илья Семёнович, потрясая над собой кулаками. – Я же просил… я же предупреждал… не называть меня…
С этим словами он схватил телефонный аппарат, зачем-то плюнул на него и со всего маху запустил в дверь, за которой скрылась перепуганная жена. Аппарат мерзко звякнул и развалился на множество запасных частей.
Праздничный вечер был испорчен.
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЙ
Самохвалов решил заняться спортом. Не с целью подготовки к соревнованиям, а в смысле здоровья, - пошаливать стало. И то сказать – шестой десяток на днях разменял.
- Бегать буду по утрам! – объявил он жене.
Утром следующего дня, поглядев в окно, Самохвалов с тревогой подумал: «Под дождём последнее здоровье потеряешь!», и твёрдо сказал подающей ему кроссовки супруге:
- Завтра иду в спортзал!
В тот же вечер, посмотрев по телевизору баскетбольный матч, где одного из участников на руках унесли с площадки с забинтованной ногой, решительно заявил спутнице жизни:
- Запишусь в плавание!
На следующий день, когда жена принесла ему новые плавки, резиновую шапочку и очки для водных видов спорта, Самохвалов вдруг вспомнил, что не умеет плавать.
- Не беда, - бодро сказал он опечаленной матери его четверых детей и троих внуков, - куплю гантели и дома, в тепле да уюте… Благодать!
Сразу после выходных Самохвалов направился в спортивный магазин.
- Гантели есть? – спросил он продавщицу.
- Есть! - ответила та. – Вам какие?
- Самые тяжёлые! – торжественным голосом сказал Самохвалов.
Увидев принесённые ему гантели, он слегка оробел и попросил «чего-нибудь полегче».
Продавщица ещё три раза ходила на склад за новыми гантелями, принося каждый раз на несколько килограмм легче, пока вдруг, обессиленная, не рухнула на стул, успев нажать какую-то кнопку рядом с кассовым аппаратом.
Когда два дюжих охранника, заломив Самохвалову руки за спину, выволокли его из магазина, дав на прощание увесистую оплеуху по затылку, он решил: «Велоэргометр, вот что мне нужно!».
- Где гантели? – спросила жена, с тревогой глядя на дёргающегося, словно в лихорадке, мужа. – Нет, что ли, в магазине?
- Есть, но не мой размер! – пряча глаза и почёсывая затылок, проговорил Самохвалов. – Велоэргометр куплю! Дома буду педали крутить! Благодать!
Через неделю аппарат был куплен и в разобранном виде доставлен по адресу.
Спустя ещё пару недель, с тоской глядя на стоящую в углу коробку с находящимся в ней спортивным снарядом, Самохвалов позвал жену и задумчиво спросил её:
- Что у нас сегодня – сентябрь?
- Октябрь! - поправила жена.
- Вот! - с готовностью подхватил Самохвалов. – Через месяц-другой мухи белые полетят, снег ляжет! А что это значит?
- Что? – переспросила жена, с тревогой глядя на мужа.
- А это значит… - Самохвалов ласково посмотрел на жену и поднял вверх указательный палец. – А это значит, что пора лыжи покупать! Кататься буду, здоровье укреплять! Готовь сани летом! Как ты на это смотришь? Ну, теперь держись!..
РОЖДЕНИЕ АКТЁРА
От актёра Подмосткина всегда чем-то пахло – то тухлыми яйцами, то гнилыми помидорами, то...
- Вась, ты бы сменил амплуа, - участливо говорила жена, видя, как муж, приходя вечером домой, места себе не находит.
- Амплуа? – вскидывался Подмосткин. – А на что я его сменю? И зачем вдруг менять, если я его нашёл?! Обрёл, так сказать, выносил, вынянчил!
- Так ведь пахнет, - робко говорила жена. – Вон, и сегодня…
- Не сметь! – вскакивал со стула служитель Мельпомены и, потрясая над головой руками, шёл на жену. – На святое! Не сметь!
Жена обречённо махала рукой и со словами «Ну и воняй!» уходила в свою комнату.
Подмосткин не всегда был резок с женой, раньше прислушивался к её советам, ценил её вкус. Но когда в театр пришёл новый режиссер, сделавший ставку на молодых актёров, всё рухнуло в один момент. За два года ни одной стоящей роли. Никакие прежние заслуги в расчёт не брались, словно их и не было.
Чтобы не обижать актёра с сорокалетним стажем, режиссёр вежливо, но твёрдо говорил:
- Ну, какой вы, простите за выражение, Джеймс Бонд! У вас же э-э… живот, лысина, да и…
- Так ведь лысину можно прикрыть! - не сдавался Подмосткин. – Паричком-с!
- А храмоту вашу, а косолапость, а сутулость чем прикроешь? – парировал режиссёр, не замечая игривости пожилого актёра. – Сколько вам уже – за шестьдесят?
- Пятьдесят девять! – гордо возражал Василий Петрович.
- Ну, вот видите! – начинал терять терпение режиссёр. – В общем, ищите себе новое амплуа или…
Это режиссёрское «или» не на шутку встревожило Подмосткина, он весь съёжился, опустил голову и еле слышно проговорил:
- Хорошо. Извините.
И вот теперь, оставшись один и успокоившись, Василий Петрович размышлял: «Идти на поводу у публики, потакать её низменным интересам и несовершенному вкусу? Ну, это уж дудки! Актёра в себе убить? Да ни в жизнь! Не нравится ему, видите ли, современный бандит в моей трактовке! Не верит он, видите ли! Станиславский!»
И вдруг произнёс вслух, понизив голос до змеиного шипения:
- Убью его!
На следующий день, войдя без стука в кабинет режиссёра, Подмосткин прямо с порога выдохнул, гневно сверкая очами и доставая из-за пазухи огромный кухонный нож, больше похожий на пилу:
- Убью тебя! Ты не должен жить! Не должен…
И в тот же момент услышал восторженный вопль режиссёра:
- Вот! Браво! Вот! Можете ведь! Браво! Ах, какой молодец! Где ж вы раньше-то были?! Верю! Вот теперь – верю!
Через два месяца после генеральной репетиции пьесы «Бандитский Екатеринбург», где роль отца местной мафии исполнял актёр Василий Подмосткин, на общем собрании труппы режиссёр сказал:
- Любите искусство в себе, а не себя в искусстве. Как это делает наш старший товарищ, - и с чувством долго тряс руку Василия Петровича.
ЗАЧЁТ
Доцент кафедры компьютерных сетей технического вуза Коновалов принимал у студентов-первокурсников зачёт.
- Внимание, вопрос! – подражая ведущему горячо любимой передачи «Что? Где? Когда?», сказал Коновалов, обращаясь к студенту Горшкову. – Что вы знаете о моделировании нейронных сетей? На подготовку к ответу у вас одна минута. Время пошло.
Затем, строго заявил аудитории, вмиг зашуршащей шпаргалками:
- Тишина в зале! Иначе я буду вынужден остановить игру… э-э… занятие.
Студен Горшков, также большой любитель интеллектуального телешоу, закатив глаза к потолку, стал изображать мыслительный процесс. Он шевели себе волосы, закрывал лицо руками, покачиваясь влево и вправо, пританцовывал и гримасничал.
Взглянув на часы, Коновалов отрывисто произнёс:
- Время! Кто будет отвечать… э-э… отвечайте!
Горшков весь сжался, но вдруг распрямился и громко сказал:
- Прошу помощь клуба!
- Итак, помощь клуба! – подхватил Коновалов, но быстро осёкся. – Какая ещё помощь! Отвечайте, или…
- Я учил, Евгений Владимирович! – перебил его Горшков. – Учил я, но…
- Что – но? – в свою очередь оборвал студента Коновалов. – У компьютера, наверное, сидели всю ночь, вместо того, чтобы готовиться к зачёту. Так?
- Так! – опустил голову Горшков.
- Ну, и чего интересного вы там для себя обнаружили? – с грустью в голосе спросил Коновалов.
- Обнаружил! - встрепенулся Горшков. – Много!
- Например? – усмехнувшись, спросил Коновалов. – Только покороче!
- Про вас обнаружил! – окончательно овладел собой Горшков.
- Что-что? – недоверчиво спросил преподаватель. - Ну-ка, ну-ка…
- Что вы пишите стихи и руководите литературным объединением «Бродячий пёс»! – торжественно сказал Горшков.
- Ну, это… так…, - засмущался Коновалов.
- А ещё, - студент поднял вверх указательный палец, - что вы профессионально занимаетесь шахматами, кикбоксингом, дайдо-джуку-кудо. А в сферу ваших интересов входит античность, астрономия, девушки, дзен-буддизм, медитация, подводная охота, полёты на дельтоплане, скалолазание, секс, туризм и я, то есть вы.
Покраснев от удовольствия, Коновалов хотел что-то сказать, но в горле у него запершило и он опустил голову, чтобы не показать студентам своё волнение.
- В общем, вы такой разносторонний и талантливый человек, что сами себя боитесь! – громко и торжественно заключил студент.
Коновалов встал, поправил очки и, с любовью посмотрев на Горшкова, сказал:
- Ваш ответ принят! Теперь – правильный ответ… э-э… давайте зачётку