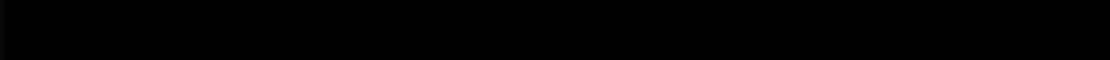СЫН РОССИИ
А.М.Горький в своё время сказал: «Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей», любви ко всему живому в мире и милосердия, которое – более всего много – заслужено человеком».
Эти слова, на мой взгляд, в полной мере можно отнести и к Е.А.Евтушенко, ушедшему из жизни 1 апреля 2017 года за три с половиной месяца до своего 85-летия. Скончался в американском городе Талса, штат Оклахома, где в местном университете читал иностранным студентам лекции по русской культуре, искусству, литературе, кинематографии. В 2013 году перенёс сложнейшую операцию по ампутации правой ноги. Согласно последней воле, похоронен 11 апреля на Переделкинском кладбище в Москве рядом с могилой Б.Пастернака. «Бывают странные сближенья» - писал Пушкин, имея в виду, что иногда вроде бы независимые события совпадают не просто так, а по промыслу Божию. Это я к тому, что 10 апреля его похоронить не могли, поскольку, как известно, в стране в этот день отмечали 80-летие Беллы Ахмадулиной. Но это к слову.
Более жизнелюбивого и жизнестойкого человека назвать не могу. Не могу назвать поэта, к судьбе и творчеству которого было бы приковано такое пристальное внимание, о котором не было бы столько самых противоречивых слухов и домыслов, иногда нелепых и оскорбительных, сплетен, клеветы, суждений и осуждений, а также восхищений и восторгов. В его творческой биографии сотни изданных книг на 72-х языках мира, включение во все современные энциклопедии и антологии, ордена, премии, профессорские и академические мантии, признание великих.
Бродский, которого он вытащил из ссылки, говорил о нём впоследствии, на безопасном расстоянии, весьма не лицеприятно. Правда, потом извинялся и каялся, признавался: «Нас ссорили, сталкивали лбами, а я верил».
Евтушенко был сильным, мужественным человеком, и в то же время ранимым, уязвимым, а порой беззащитным. Для поэта это естественно. Будь он другим, не оставил бы нам своих неповторимых по звучанию, по глубине проникновения в существо жизни, по нравственной высоте, по исповедальности поэм, стихов, романов, публицистики.
Он говорил о той непростой ситуации с Бродским: «Это самая большая рана, мне нанесённая когда-либо». Но Евтушенко выполнял «поручение от Бога» (как определил миссию поэта на земле Е.Баратынский), простил и это, написав 26 февраля 2004 года в стихотворении памяти Бродского «Брат мой, враг мой»:
Как же так получилось оно?
Кто натравливал брата на брата?
Что – двоим и в России тесно?
И в Америке тесновато?
Как с тобою мы договорим?
Нас пожрал теснотой и ссорами
наш сплошной переделкинский Рим,
да и выплюнул в разные стороны…
Мёртвым нам не уйти, как живым,
от кровавого русского римства.
Мы с тобою не договорим.
Мы с тобою не договоримся.
В стихотворении «Со мною вот что происходит», как вы помните, есть строфа: И наш разлад необъясним, / Мы оба мучаемся с ним».
Евтушенко в своих стихах много и часто обращается к Богу (достаточно вспомнить стихотворение «Дай, Бог» и другие), и в контексте выше сказанного приведу такую строфу:
И у Бога ошибок много –
иногда от его доброты.
Не суди нас, Господь, слишком строго,
но не будь всепрощающим ты.
Евтушенко в одном телеинтервью сказал: «У меня в литературе нет врагов. Даже у Куняева есть хорошее стихотворение, которое я включил в «Строфы века»… И прочитал своё стихотворение, где есть строка: «Ненависть я с детства ненавижу…».
Е.Евтушенко был абсолютно, всецело творческим человеком, человеком-поэтом, беззаветно, преданно и верно служившим лишь одному – Его Величеству Искусству.
Из стихотворения «Анна Ахматова»
Искусство, как тонюсенькая нитка,
связует разведённые мосты.
Единственная, может быть, попытка
смерть победить, искусство – это ты.
Конечно, он был противоречивой фигурой. Пишет: «Дай Бог не вляпаться во власть…», но стал народным депутатом. Правда, потом это объясняет тем, что решил таким образом бороться против войны в Афганистане. Но об этом чуть ниже, из первых уст, как говорится.
1 мая 1953 г. в «Литературной газете» на первой полосе было опубликовано стихотворение 20-летнего Е.Евтушенко «Признание», где уже виден его неповторимый литературный язык, его стиль, форма, слышен ни с чем не сравнимый поэтический голос:
Ищи любовь. Ищи, других не слушая.
Не возлагай надежд на помощь случая.
Она приходит, вдохновеньем радуя,
за всё, чем в жизни дышишь ты, - наградою!
Своим трудом, любой своей победою
её ты ищешь, сам того не ведая!
Любимая! Как счастье и как истина,
ты мной была немало в жизни искана!
Ты, как мечта, моим трудом добытая,
ты, как земля, в исканьях мной открытая!
Пускай не за признаниями устными
черты любви тобою будут узнаны.
В моём пути, в труде моём, в признании
вся жизнь моя – тебе в любви признание!
«ЛГ» № 52, 1953 г.
Моя встреча с Евгением Александровичем произошла 26 декабря 2005 года во время его приезда в Рыбинск, где он выступал в местном драмтеатре. Было два отделения с антрактом, поэт читал стихи разных лет. После концерта, когда разошлись чиновники, руководители Рыбинска, зашли в кабинет директора, познакомились, поговорили. Поэт рассказал о своей первой любви к Елене Зятковской, когда та приехала из Рыбинска в Москву поступать в театральный институт. Любовь была, как говорил сам Евгений Александрович, просто безумной. Ей было 19, ему 16 лет. Но пришла пора расстаться, разлуку оба переносили тяжело. Ежедневные письма, телефонные звонки, стихи, не теряли надежды на встречу. Не случилось. Но чувства не сгорели дотла, остались в душе. Даже из Америки как-то звонил в театр, где потом работала девушка, узнавал судьбу Елены. Говорят, хорошая была актриса, потом уехала в Одессу, след затерялся. Кстати, Елена Аркадьевна свою младшую внучку назвала Евгенией, что вряд ли простая случайность.
В ту нашу двенадцатилетней давности встречу меня сильно удивило то, как держался, как вёл себя Евтушенко. Есенин вспоминал: «Когда я стоял перед Блоком, с меня капал пот, - я впервые видел живого поэта». Поначалу и со мной было нечто подобное. Но открытость и простота мастера, его добросердечие быстро сняли с меня весь напряг, развеяли все мои сомнения и опасения. Разговор шёл на равных, вернее, Евгений Александрович сделал всё, чтобы никаких чинов и званий, восклицаний и прочей мишуры. Откровенно говоря, неожиданно для себя вдруг почувствовал какую-то близость к этому красивому и мощному во всех отношениях человеку, какое-то душевное притяжение. Может, и у Евгения Александровича возникло что-то подобное, поскольку встреча была довольно продолжительной и необычайно тёплой. И автограф он мне оставил, которым горжусь, - пусть это даже простая вежливость и, как говорится, аванс.
С тех пор так и ношу в душе эту тихую радость от нашей встречи, с неизбывным интересом читаю всё, что связано с его жизнью и творчеством, собираю книги, выписываю цитаты, не стесняюсь говорить о нём как о своём кумире. Это мой нравственный ориентир, непререкаемый авторитет. Поэтому прошу меня извинить, если в моих словах прозвучит некий пафос.
Кстати, как я потом заметил, он также просто и естественно вёл себя и с американским президентом, и с генеральным секретарём ЦК КПСС, с Фиделем Кастро и Че Геварой, с Папой Римским и Анджеем Вайдой, с Гагариным, М.Шагалом и Пикассо, с рабочим и академиком, шахтёром и рыбаком, с охотником и старателем, беседуя в тиши высоких кабинетов и выступая на стадионах и площадях перед многотысячной аудиторией. На одном из своих творческих вечеров в Останкинской телестудии сказал: «Я побывал в девяноста странах мира и берусь утверждать: нет плохих или хороших народов, есть плохие и хорошие люди. Хороших неизмеримо больше».
Я всё-таки отыскал в своём архиве тетрадку с записями той встречи, вот по ним и привожу наш разговор и впечатления. Евгений Александрович тогда неожиданно сказал: «Знаете, наверное, песню: «А кавалеров мне вполне хватает, но нет любви хорошей у меня»? Кто написал?». Я возьми да ляпни: «Народная песня». «Вот, - как бы обрадовавшись, говорит Евтушенко, - многие так думают. А песню написал ваш покорный слуга. Слова пришлись людям по душе и ушли, как говорится, в народ». Ещё он сказал: «Я зарекался ходить в политику. Это не дело для поэта. Но когда предложили пойти в народные депутаты СССР, пошёл. Знаете почему? Потому что у меня было две цели: прекратить существование позорных выездных комиссий и остановить войну в Афганистане. Я бился насмерть над этими двумя задачами. Помню, как нас с Муслимом Магомаевым эти комиссии не пустили за границу – не ответили на какие-то дурацкие вопросы, то есть оказались не достаточно политически подкованы. Что может быть унизительнее! Человек должен иметь возможность сравнивать свою страну с другими, иначе появляется ложная гордость, человек замыкается в себе. Признаюсь, я всегда был одного умозаключения: я – социал-идеалист, верю не в идеологию, а в идею, которую способна родить только творческая личность. Из наиболее ярких и радостных событий в своей жизни последнего времени назвал бы то, что сразу несколько международных общественных организаций выдвинули меня на соискание Нобелевской премии, причём в двух номинациях – в области литературы и премии Мира». В конце беседы на вопрос Людмилы ответил так: «Я женат четвёртым браком. А это значит, что в моей жизни было четыре огромные любви. От четырёх браков растут пять сыновей. Младший Женька унаследовал мой дар, неплохо пишет стихи, а вот Саша хорошо читает. Есть ещё Пётр, Антон и Дмитрий. Старшие ближе к современной технике. Но главное, что они дружат между собой, осознавая своё кровное родство, мне это сильно нравится».
В творческой биографии Е.Евтушенко сотни изданных книг на 72 языках мира, включение во все современные энциклопедии, ордена, премии, профессорские и академические мантии, признание великих. Он истинный полпред отечественной литературы, великого русского художественного слова во всех странах земного шара.
У него в стихотворении, посвящённом В.Соколову, есть такие слова: Висели Сталинские портреты, / зато какие были поэты! Это двустишие я взял эпиграфом к своему стихотворению, которое вошло в книгу «По набережной Леты». Оно так и называется:
ЕВТУШЕНКО
Книги в модной когда-то стенке,
Как в застенке. Хозяин строг:
- Да, у раннего Евтушенко
Есть немало великих строк.
Впрочем, поздний, конечно, тоже…
Не торгуйся, бери у нас,
В магазине-то он дороже,
Всё дороже у нас сейчас.
Вот две строчки, а жизнь в них целая,
Бесконечно читать могу:
«Ты большая в любви. Ты смелая.
Я – робею на каждом шагу».
Не нужны здесь разбор, анализ…
Да, с дантесовской пулей в груди
Все поэты у нас рождались, -
В этом прав он, как не суди.
«Прикандален» к России, к слову
Поэтическому навек…
- Он и в жизни такой же, к слову,
Интереснейший человек!
- Вы знакомы?
- Знаком немножко.
- Даром книжку тогда бери.
…Вновь читаю, пока в окошко
Не проклюнется луч зари.
Евтушенко – единственный поэт, который спасает меня от немоты. Когда не пишется и появляется как следствие дискомфорт, беру ту или иную книгу великого русского поэта, и порой не могу дочитать стихотворение до конца, чувствую в душе и голове брожение строки, которую срочно надо положить на бумагу. То есть его художественный, творческий потенциал настолько велик, что передаётся через книжные страницы. Впрочем, я говорю, конечно, только о себе.
Евтушенко сыграл в моей творческой судьбе огромную роль. Несколько раз разговаривали по телефону. Как-то мне всегда удавалось застать его в Москве. Однажды по простоте души пригласил его приехать на Некрасовский праздник поэзии в Карабиху. Он сказал: «Времени совсем нет. Но я приеду, правда, с одним условием: никого из других поэтов быть не должно, и артистов тоже, никакой подтанцовки. Я привезу свою программу». Конечно, он знал себе цену. В «Карабихе» меня не поддержали, вернее, не услышали. Пригласили Пеленягре, который превратил праздник поэзии в дискотеку. Последний разговор состоялся три года назад. Позвонил на удачу, и он неожиданно снял трубку. Сказал, как всегда: «Привет, тёзка!», был спокоен, но чем-то, мне показалось, озабочен и даже удручён. Я готовил тогда новую книгу и попросил у него написать предисловие. Он согласился, задал два-три вопроса, а затем говорит: «Я напишу, но ты подумай, нужны ли тебе эти подпорки? Книга-то, вроде, и без того получается». Это было для меня столь неожиданно – я никогда об этом не думал – что на какое-то время потерял дар речи. И услышал в трубке: «Нет, ты присылай рукопись, но подумай». Я подумал, и с тех пор никаких предисловий к своим книжкам не ставлю. Правда, для других пишу их часто, и не считаю это чем-то предосудительным.
Хочу коснуться некоторых творческих этапов, жизненных вех Е.Евтушенко.
Родился 18 июля 1933 г. на станции Зима Иркутской области.
В 1937 г. написал первое в жизни стихотворение «Я проснулся рано-рано…», а первая публикация – в 1949 г. в газете «Советский спорт», стихотворение называлось «Два спорта». С 1950 года активно публикуется во Всесоюзных газетах. Первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году, в этом же году без аттестата зрелости (в 1948 году был исключён из школы) поступает в Литературный институт ми. А.М.Горького. Начало дружбы с В.Соколовым, Р.Рождественским, Ю.Казаковым, М.Рощиным, Я.Смеляковым, вступление в Союз писателей СССР.
1955 – женитьба на Б.Ахмадулиной. Поездки по стране – Сибирь, Грузия, Абхазия, Дальний Восток.
1957 – отказ от участия в осуждении Б.Пастернака за публикацию романа «Доктор Живаго» за рубежом. Исключён из Литинститута.
1961 – публикация в «Литературной газете» стихотворения «Бабий ЯР», пребывание на Кубе, знакомство с Ю.Гагариным, Че Геварой, Ф.Кастро.
1962 – выходит первая зарубежная книга «Со мною вот что происходит».1965 – публикация поэмы «Братская ГЭС» в журнале «Юность», поездка в Италию, хлопоты о возвращении из ссылки И.Бродского. Поездка по Австралии, большое турне по Латинской Америке.
1969 – награждён орденом «Знак Почёта». Публикует стихотворение «Танки идут по Праге». Выведен из состава редколлегии журнала «Юность» вместе с Аксёновым.
1977 – поездка по Колыме.
1978 – в «Комсомольской правде» опубликована статья «За великое дело любви» к 100-летию со для смерти Н.А.Некрасова.
1982 – работа над кинофильмом «Детский сад». Вручён орден Трудового Красного Знамени, а также премия Академии Симба (Италия).
21 августа 1991 года – выступление на балконе Белого дома со стихотворением «19 августа».
1993 – закончена работа над романом «Не умирай прежде смерти». Отказался получать орден Дружбы народов «за большой вклад в развитие отечественной литературы» в знак протеста против войны в Чечне.
1995 – выход Антологии «Строфы века».
2004 – награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени.
2006 – Почётный гражданин города Петрозаводска.
2007 – «Зигзагообразный тур по земному шару» с чтением стихов в США, Гватемале, Сальвадоре, Венесуэле, во многих городах России.
2009 – Командор высшего Чилийского ордена.
2010 – присуждена Государственная премия России в области литературы и искусства, Почётный гражданин Республики Карелия.
2013 – лауреат специальной номинации «За честь и достоинство» в рамках премии «Большая книга».
2015 – Почётный гражданин Иркутской области.
2016 – Орден «Полярная звезда» за выдающиеся заслуги в области литературы и искусства.
В 1994 году именем поэта названа малая планета Солнечной системы за № 4234.
Первый из россиян стал лауреатом китайской литературной премии «Чжункунь».
Конечно, это самая мала часть обширнейшей, богатейшей на события творческой жизни гениального человека. Обо всём не расскажешь и за сутки, да и не скажешь, наверное, главного об этом удивительного таланта, непостижимой творческой энергии художнике – поэте, прозаике, публицисте, переводчике, драматурге, режиссёре, актёре.
По его поэме «Бабий Яр» Дмитрием Шостаковичем написана симфония, а также кантата «Казнь Степана Разина». В 2007 году впервые прозвучала рок-опера по произведениям поэта «Идут белые снеги…».
Ему принадлежат романы «Ягодные места» (82 г.) и «Не умирай прежде смерти» (93).
Автор двадцати поэм, наиболее известные из которых «Станция Зима» (56), «Бабий Яр» (61), «Братская ГЭС» (65), «Под кожей статуи Свободы» (68), «Голубь в Сантьяго» (78), «Мама и нейтронная бомба» (82).
Режиссёр фильмов «Детский сад» (83) и «Похороны Сталина» (90).
Как актёр снимался в фильмах «Взлёт» - роль Циолковского, «Детский сад» - шахматист, «Похороны Сталина» - скульптор.
Написал сценарии к фильмам «Я – Куба» (64) и «Похороны Сталина».
На его стихи написано великое множество песен, ставших известными и любимыми в том числе и по кинофильмам – «Дай, Бог», «Девочка на шаре», «Со мною вот что происходит», «Любимая, спи», «В нашем городе дождь», «Не исчезай», «А снег повалится», «Все силы даже прилагая», «Глаза любви», Зашумит ли клеверное поле», «Наш непростой советский человек», «Я – гражданин Советского Союза», «Чёртово колесо», «Серёжка ольховая», «Не спеши» и т.д. Но самая известная, которую знают во всём мире песня Е.Евтушенко – это, конечно, «Хотят ли русские войны», композитор Э.Колмановский. (Жаль, что в песню не вошли строки: Под шелест листьев и афиш / Ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж». Гениальные строки. Но в стихотворении они, конечно, остались. Кстати, с композитором Э.Колмановским написано больше всего песен (как говорится, нашли друг друга) – «Бежит река», «Вальс о вальсе», «Долгие проводы», «Идут белые снеги», «Родина моя», «Старинное танго», «Товарищ гитара», «Убийцы ходят по земле» и другие.
Песни на стихи Е.Евтушенко звучали – и продолжают звучать - в исполнении самых ярких отечественных певцов – К.Шульженко, Л.Зыкиной, М.Бернеса, Марии Пахоменко, Л.Сенчиной, М.Кристалинской, М.Магомаева, Г.Отса, И.Кобзона, А.Пугачёвой, Л.Гурченко, Л.Лещенко, Гелены Великановой, Анны Герман, В.Трошина, А.Малинина, Э.Хиля, Артура Эйзена, А.Градского, В.Кикабидзе, ансамбля им. Александрова, различных ВИА и т.д.
Песни на произведения Е.Евтушенко писали М.Таривердиев, Е.Крылатов, А.Эшпай, Р.Паулс, А.Бабаджанян, Д.Тухманов, Гр. Пономаренко, Ю.Саульский, Андрей Петров, С.Никитин, И.Тальков и многие другие.
На моём столе постоянно лежит та или иная книга Евгения Евтушенко. Выписываю, коллекционирую цитаты из его произведений. Вот некоторые из них, не называя самого стихотворения.
* * *
Поэты в России рождались
с дантесовской пулей в груди. - Скажешь такое, найдёшь такое выражение, и умирать не страшно.
Или: Литература – это не балет,
где красотой оправдан пируэт.
* * *
Мы давно привыкли к знаменитой его строчке «Поэт в России больше, чем поэт», сделали её непременным атрибутом своей жизнедеятельности, как бы отказываясь от остальных трёх. А полностью четверостишие звучит так:
Поэт в России больше - чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
кому уюта нет, покоя нет. А дальше -
Поэт в ней – образ века своего
и будущего призрачный прообраз.
Поэт подводит, не впадая в робость,
итог всему, что было до него…
И, на колени тихо становясь,
готовый и для смерти, и победы,
прошу смиренно помощи у вас,
великие российские поэты…
Дай, Пушкин, мне свою певучесть,
свою раскованную речь,
свою пленительную участь –
как бы шала, глаголом жечь.
Дай, Лермонтов, свой желчный взгляд,
своей презрительности яд
и келью замкнутой души,
где дышит, скрытая в тиши,
недобрости твоей сестра –
лампада тайного добра.
Дай, Некрасов, уняв мою резвость,
боль иссеченной музы твоей –
у парадных подъездов и рельсов
и в просторах лесов и полей.
Дай твою неизящную силу.
Дай мне подвиг мучительный твой,
чтоб идти, волоча всю Россию,
как бурлаки идут бечевой…
* * *
А вот совершенно гениальный образ:
Поэт,
как монета петровская,
сделался редок.
* * *
Ещё воскреснет Россия, если
её поэзия в ней воскреснет.
* * *
Русь, ты свети! – три слова, но в них целый мир, вселенная, вся любовь и тревога за Родину, за её будущее и настоящее.
* * *
Некрасов, как известно, сказал: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». А вот – Евтушенко:
Поэт политик поневоле,
Он тот, кто подал руку боли.
Или: Россия огромной Албанией стала,
к рулю темнократию допустив.
Или: Вся история русская – летопись
наших родных беспределов.
Или: Если б знать, где оно –
Бородинское поле!
А вот - гениально: Быть злым к неправде – это доброта.
* * *
Симонов сказал: «Лирические стихи пишутся до тех пор, пока жив нерв любви». У Евтушенко с этим проблем не было до конца жизни. В солидном возрасте пишет:
Установилась во мне, как погода,
ясная, тихая сила любви.
Или: И порой между делом
без большого труда
изменяю лишь телом,
а душой – никогда.
* * *
Из поэмы «Станция Зима»
Увидел я, что часто жил с оглядкой,
что мало думал, чувствовал, хотел,
что было в жизни, чересчур уж гладкой,
благих порывов больше, а не дел.
Там же:
Мы столько послевременной досады
хлебнули в дни недавние свои.
Нам не слепой любви к России надо,
а думающей, пристальной любви!
Я не хочу оправдывать бессилье.
Я тех людей не стану извинять,
кто вещие прозрения России
на мелочь сплетен хочет разменять.
Пусть будет суета уделом слабых.
Так легче жить, во всём других виня.
Не слабости, а дел больших и славных
Россия ожидает от меня.
Чего хочу? Хочу я биться храбро,
но так, чтобы во всём, за что я бьюсь,
горела та единственная правда,
которой никогда не поступлюсь.
Чтоб, где ни шёл я: степью опалённой
или по волнам ржавого песка, -
над головой – шумящие знамёна,
в ладонях – ощущение древка.
* * *
Пою и пью, не думая о смерти,
раскинув руки, падаю в траву,
и если я умру на белом свете,
то я умру от счастья, что живу.
Е.Евтушенко, «Анна Бунина»
Есть в женщинах-поэтах постоянность
достоинства…
Е.Евтушенко, «Нанду»
Полуязык не есть язык.
Он – как заплёванный родник.
Язык – это и есть народ.
Язык умрёт – народ умрёт.
* * *
Лицо, однажды мордой став,
не восстанавливается.
* * *
Наверно, лишь отчаявшись, возможно
с эпохой говорить начистоту.
* * *
Были мы, кажется, общий народ,
а раскрошились теперь на сирот.
* * *
Нынче пошлости слава и почести,
ей в России теперь благодать…
* * *
Нас всех история сварила
в котле, где вместе кровь и грязь,
не для того, чтоб мы сварливо
кусались, рядышком варясь.
* * *
Уж лучше вскрыть ножом консервным вены,
лечь забулдыгой в сквере на скамью,
чем докатиться до комфорта веры
в особую значительность свою.
Об этом же, но только прозой: Осторожней с бездарностями – особенно если в их глазах вы видите опасно энергичные искорки гигантомании.
* * *
Тот поэт – кто, срываясь, любя,
написал и свой век, и себя.
Без такого двойного портрета
вообще не бывает поэта.
* * *
Поэт в нашем веке – он сам этот век.
Все страны на нём словно раны.
Поэт – океанское кладбище всех,
кто в бронзе и кто безымянны.
Поэта тогда презирает народ,
когда он от жалкого гонора
небрежно голодных людей предаёт,
заевшийся выкормыш голода.
Поэт понимает во все времена,
где каждое – немилосердно,
что будет навеки бессмертна война,
когда угнетенье бессмертно.
Поэт – угнетённых всемирный посол,
не сдавшийся средневековью.
Не вечная слава, а вечный позор
всем тем, кто прославлен кровью.
* * *
Тот, кто вчерашние жертвы забудет,
может быть, завтрашней жертвою будет.
А это примеряю на себя:
Я – не пример. Был говорливо мелок.
Мне не хватало сил на немоту,
и то, что я не знал постылых сделок,
сам про себя сказать я не могу.
Порою бунтовал – дым коромыслом!
А у себя, ей-богу, не в чести
бывал и оскоромлен компромиссом
и убивал стихи, чтобы спасти.
* * *
Нынче пошлости слава и почести,
ей в России теперь благодать…
* * *
А вот приговор всему нынешнему офисному планктону:
Готовность к проституции карьерной
позорней проституции самой.
Готовность эта стала беспримерной
российской новоявленной чумой.
* * *
А это вообще «гильотина» для властей предержащих:
Я задаю с укором
властям вопрос простой:
Россия – полный короб,
но почему пустой?
При нашей русской дрёме,
при нашем воровстве
нам не царя на троне –
царя бы в голове!
* * *
Но о чём бы ни писал Евтушенко, всегда у него найдёшь оптимистические нотки:
Всё вновь не в лад, некстати.
Где справедливость, честь?
Зато всегда писатель,
ну, хоть один, да есть.
Об учителях: Учитель – он доктор, а не поучитель…
Должны мы бороться за детские души
прививкой стыда,
чтоб не уродились ни фюрер, ни дуче
из них никогда.
Но прежде чем лезть с поучительством грозным
и рваться в бои
за детские души – пора бы нам, взрослым,
очистить свои…
О поэзии у разных поэтов сказано много, а вот как у Евтушенко:
Поэзия – великая держава.
Империй власть, сходящая с ума,
Ей столько раз распадом угрожала,
Но распадалась всё-таки сама.
Поэзия – такое государство,
Где правит правда в городе любом,
Где судят, как за нищенство, за барство,
Где царствует, кто стал её рабом.
В ней есть большие, малые строенья,
Заборы лжи, и рощи доброты,
И честные нехитрые растенья,
И синие отравные цветы.
Поэзия, твоя столица – Пушкин
С московской сумасшедшинкой грехов,
Звонящий над толпой спешащих, пьющих
Церквами белокаменных стихов.
Вот город Лермонтов под бледными звездами
Темнеет в стуках капель и подков
Трагическими очерками зданий,
Иронией молчащих тупиков.
Село Есенино сквозь тихие берёзки
Глядит в далёкость утренних дорог.
Гудит, дымится город Маяковский,
Заснежен, строг и страстен город Блок.
В твоей стране, на первый взгляд беспечной,
Поэзия, - и кровь и слёзы вдов,
И Пастернак, как пригород твой вечный
У будущих великих городов.
В этом году вышла книга Б.Мессерера «Промельк Беллы», приуроченная к юбилею выдающегося поэта современности. Борис Асафович очень точно озаглавил книгу о любимой женщине. «Быстрый промельк моховой» - строка из любимого Беллой Ахатовной стихотворения Б.Пастернака «Никого не будет в доме», очевидно, послужила ему поводом именно так озаглавить сразу ставшую бестселлером книгу. Вот и о жизни Евгения Евтушенко можно так же сказать – промельк Евтушенко. Промельк, словно след пролетевшей кометы, который остаётся в памяти навсегда – столь он ярок и необычен.
ПАМЯТИ Е. ЕВТУШЕНКО
Поэты молодеют, умирая.
Смерть – это смерть для нравственных калек,
а смерть поэта – молодость вторая,
вторая жизнь – теперь уже на век.
Е.А.Евтушенко
Евгений Александрович, пока
Сердца для чести живы и мы сами,
Вы с нами, в нас – поэмами, стихами
И музыкой, летящей сквозь века.
Евгений Александрович, теперь,
Когда не стало вас на этом свете,
Мы за строку вдвойне, втройне в ответе,
Но ваш уход – потеря из потерь.
Евгений Александрович, на вас
Нельзя быть даже чуточку похожим,
Вы весело весенним днём погожим
Ушли прямой дорогой на Парнас.
Евгений Александрович, туда
Вас взял Господь. Отныне ваше слово
Для нас всегда, всё время будет ново,
Оно пришло на землю навсегда.
Евгений Александрович, побед
И поражений в жизни было много.
Сказать лишь может тот, кто слышит Бога:
«Поэт в России больше, чем поэт».
Каждый год в день своего рождения Е.Евтушенко читал свои стихи в Политехническом музее, известном по фильму «Застава Ильича».
В 2010 году в Переделкино Е.А. отрыл музей-галерею собственного имени, где, в частности, представлены картины, подаренные поэту художниками М.Шагалом, Пикассо и др.
Евгений Евтушенко навсегда современен. Как истинный, подлинный поэт он был пророком. Думаю, проживи он ещё немного, попал бы в списки не въездных в Украину, поскольку всю жизнь боролся за мир и ненавидел войну. В 1966 году написал:
Несвобода ли, свобода –
где, - попробуй выяви!
Я – на сцене Лиссабона,
запрещённый в Киеве.
Я не исключаю, что вскоре рост поэтической аудитории пойдёт в обратном направлении, к «неслыханной простоте», как говорил Пастернак, и тогда заново будет услышан Евтушенко. Ведь, прочитав где-нибудь эти строки, можно не искать в Интернете ссылки на авторство:
Идут белые снеги,
как по нитке скользя…
жить и жить бы на свете,
да, наверно, нельзя.
Чьи-то души бесследно,
растворяясь вдали,
словно белые снеги,
идут в небо с земли…
Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России
МУТИН Валерий Васильевич
ЕГО СВЯТОЕ РЕМЕСЛО
 Словами, вынесенными в заголовок, принадлежащими великой землячке Марии Петровых, определено, на мой взгляд, всё творчество ярославского поэта Валерия Мутина.
Словами, вынесенными в заголовок, принадлежащими великой землячке Марии Петровых, определено, на мой взгляд, всё творчество ярославского поэта Валерия Мутина.
Действительно, в сегодняшних условиях любое занятие «святым ремеслом» достойно называться служением, а выход к читателю – подвигом. Речь идёт, естественно, о серьёзном творчестве, а не игре в литературу. А Валерий Васильевич – профессионал, мастер художественного слова, автор нескольких стихотворных книг, подтверждающих безусловный талант писателя.
Любой его поэтический сборник выстраивается несуетливо, основательно. Все они чисты и светлы, в них тепло и уютно. Их пронизывает ощущение острой, неподдельной радости существования. Они – исповедальны. В его стихах мир гармоничен и уравновешен, и можно только позавидовать, что кто-то ещё способен создавать такой мир.
Вот и эту книгу с поэтичным названием «Не упадёт моя звезда», увидевшей свет в издательстве «Нюанс», пронизывает ощущение острой, неподдельной радости существования. Живописность стиля и образность языка автора заставляют говорить о сборнике как о событии в поэтической жизни. Поэт вновь привычно блеснул своими художественными возможностями, точностью слова, живыми метафорами, музыкальным слогом, авторской, чисто мутинской интонацией. Читая его стихи, не заскучаешь, он качает читателя на волнах – от эмоционального всплеска до тонкой, порой хлёсткой иронии. Он - собеседник.
По сути все стихи Валерия Мутина - это ещё одна попытка всмотреться, вслушаться в себя, разобраться в той или иной ситуации. Автор обладает хорошим литературным слухом и вкусом, поэтическим зрением и чувством меры. Мало сказать, что стихи написаны чистым русским языком, полифоничны и образны, они – земной поклон всему сущему, гимн красоте и радости. Даже с оттенками печали, они несут в себе мощный заряд оптимизма, жизнелюбия и самоиронии.
В принципе крайне сложно давать оценку подобным сборникам. Хвалить за очевидное, подчёркивать и без того всем понятное, вроде бы ни к чему. Вопрос в том, как удалось «не мальчику, но мужу» сохранить в себе юношеское восприятие жизни, молодость души и свежесть взгляда… Честное слово, хочется пожать ему руку!
Следя за творчеством Валерия Мутина, не могу не сказать о присущем ему замечательном чувстве слова, о внимании к его звучанию. Поэзия его естественна, без кокетливых ужимок. Да, все его вещи читаются легко. Но за этой лёгкостью предстаёт немалая глубина мысли, а это, естественно, достигается исключительно большой работой ума и сердца. Иначе и быть не может. А у кого «может», тому писать противопоказано.
Ткань стиха автора этой книги – пульсирующая, напряжённая. Чувствуешь, как строки дышат, живут. Пружинная ёмкость высказывания, крепкая настойка образов и смыслов – всего этого предостаточно. И приходишь к выводу, что Валерий Мутин сумел-таки и здесь, если вновь обратиться к Марии Петровых, «домолчаться до стихов».
Если же говорить о поэтике в целом, у манеры письма Валерия Мутина три больших достоинства: краткость, динамичность, и, скажем так, большой удельный вес слова. Поэт с иронией относится к новомодным словесным конструкциям, связанных с погоней за звонкой фразой, искусственным, высосанным из пальца, образом. Учителя его – русские классики, подарившие миру бессмертные произведения «Евгений Онегин», «Бородино», «Русские женщины», «Анна Снегина» и другие. Это глубинно-корневое, «традиционное» в лучшем смысле этого слова творчество и отличает его от иных современных рифмогонов. Мутин – поэт прямого открытого стиля, и в этом он следует традициям Н.Клюева, М.Исаковского, А.Фатьянова, П.Васильева, Н.Рубцова. Он – из их плеяды по мироощущению. Он – лирик самый подлинный, не декларативный, что картинно грустит под берёзкой о «малой родине». Родина у него большая, до боли своя, вот только говорит он о ней негромко, даже как бы застенчиво, как о самом дорогом, любимом, близком. Именно оттуда приходит такое языковое богатство и такая чистота душевных помыслов, такое беспрерывное стремление к красоте. Такие стихи не сочиняются, их надо прожить, переболеть ими.
Большая редкость сегодня – стихи гармоничные, светоносные, лёгкие. Лёгкие не потому, что неглубоки и не требуют в ответ сердечного участия. Лёгкость Валерия Мутина совсем иного рода: это лёгкость зрелого мировоззрения, преодолённой печали, мудрого доверия к жизни. Стихи просты, но не простоваты, легки, но не легковесны. Наверное, не сильным преувеличением будет, если скажу, что такие стихи имеют психотерапевтический эффект и способны излечить от многих недугов.
В то же время здесь наличествует и строгая поэтическая поступь, вдумчивая созерцательность и чёткость строк… В общем, книга неторопливая, требующая особого настроя души.
Поэт активно публикуется в самых престижных отечественных изданиях, приобрёл твёрдую поэтическую репутацию, известность и даже популярность. Но он не мнит себя избранником, не становится на котурны, он всегда равен собеседнику, равен самому себе, равен своей судьбе.
Уверен, что поэтическая звезда Валерия Мутина будет всё ярче сиять на небосводе отечественной поэзии.
Евгений ГУСЕВ
СИМОНОВ Альфред Николаевич
ВРЕМЯ ПИСАТЬ О ЛЮБВИ
 Чтобы в зрелые годы взяться за перо и замахнуться сразу на роман, надо, на мой взгляд, иметь немалое мужество. Ну и дарование, конечно. Да и познания нужны, знакомство с опытом предшественников в сём деликатном деле.
Чтобы в зрелые годы взяться за перо и замахнуться сразу на роман, надо, на мой взгляд, иметь немалое мужество. Ну и дарование, конечно. Да и познания нужны, знакомство с опытом предшественников в сём деликатном деле.
С первых же страниц рукописи стало понятно: всё это у автора есть. Сомнения в нужности и художественной ценности произведения исчезли почти сразу, а вот интерес всё возрастал. И возникли некоторые мысли, которыми рискну поделиться.
Сейчас над художественным словом, литературой, духовностью стоит практическая суета. Тиражируется бездарность, псевдо- и даже антилитература. Воинствующий делитантизм прочно обосновался на книжных полках магазинов. Амбициозные неумехи, прилитературная шпана всегда чутко реагировала на «запросы рынка». Произошла резкая и циничная подмена художественных ценностей на хлам местного значения, измеряющийся погонными страницами. Напёрсточники от литературы одержали полную победу над «исписавшимися соцреалистами». Потрясённые своей гениальностью, нынешние «ничевоки» не слишком утруждают себя отделкой литературной формы, слога, работой над собой и словом. В общем, постперестроечный маразм породил духовную засуху в литературе. И, как и следовало ожидать, высохшее русло тут же заполнили крокодиловы слёзы припадочных критиков и моча мелких юмористов-смехачей. Неизвестно откуда появились «благодетельные особы», готовые «раскрутить» каждого, кто способен плясать под их, разрушителей, дудку. Окружив пиететом, тащат они на пьедестал «иллюзионистов пера» (Я.Смеляков), у которых то и дело случается непроизвольная словесная дефекация. Рукоделие детективствующих дам не знает границ. На телевидении всерьёз обсуждается вопрос о легализации мата. Словесный блуд, невнятица и нелепица, жеманное кокетство, глумливое ёрничество, хохмаческое паскудство, желание понравиться любой ценой, у нынешней «претендующей бездари» превалирует над всем остальным.
Одарённым авторам сейчас трудно бывает избежать воя и визга бульварной прессы, ритуальных плевков «демократической» критики. Но надо помнить, что жажда надругательства над высоким – это в большой степени личная месть за собственное пигмейство. Сейчас в России, как говорит Е.Евтушенко, возникла ситуация кризиса не только литературы, но и отношения к ней. Она, литература, можно сказать, стала зоной повышенной опасности. Не парадокс ли, говоря о сфере возвышенной и созидающей?
Глядя на современного производителя текстов, теряешься в догадках: что, среди современников нет никого, кто бы заслуживал серьёзного внимания? Есть! Один из них – перед вами.
С Альфредом Симоновым знаком немало лет. Правда, не до такой степени, чтобы знать его «душевные порывы», но всегда чувствовал в нём творческую, извините, начинку. Этот симпатичный улыбчивый товарищ всегда нёс в себе мощный художественный потенциал, что и ощущается на страницах его романа. Он свободно и раскованно вводит читателя в мир своих переживаний, сомнений и радостей, своих мыслей, в атмосферу своего – нашего! – времени. Как и в жизни, здесь он прост и доступен, интеллигентен и самоироничен, подтянут и собран.
С доброй профессиональной завистью вижу, что пишет Альфред Николаевич сжато и выразительно, тонко, со вкусом и знанием дела. Слово его всегда точное и на месте, строка упругая и многоцветная. Он умеет выстроить фразу и держать интонацию. И это, на мой взгляд, пример взыскательного труда состоявшегося литератора.
У него нет никакого подтекста, зато есть сам текст. Роман можно открыть на любой странице и читать, наслаждаясь свежестью и красотой языка, новизной и неожиданностью жизненных ситуаций, поведением героев. Импонирует его стремление оставаться самим собой, не сбиваться на чужой тон, полное неприятие штампов, затёртых выражений. Его мысль не замутнена декоративной метафорикой, всегда несёт убедительную завершённость. Бесхитростно, честно и искренне повествует он о своих отношениях с женщиной, с друзьями, с начальниками, не прячет свои «грешные» мысли, но и высокого в себе не стесняется.
Не лишним будет сказать, что его текст отличается удивительной мягкостью, родственным отношением к предмету изображения. Что ж, это особое свойство его зрения и слуха, это – музыка его души. Похоже, автору хорошо работается, - сами собой приходят нужные слова, мысль обретает глубину, а образы – ёмкость и органичность.
Сильная проза! Пора, пора поправлять нравственное зрение, расфокусированное пятнадцатилетним шабашем всякого рода иронистов-пародистов, «сексопаталогов» и прочих дуремаров.
Что скрывать, книги подобного содержания – «на основании обширного фактического материала», - написанные членами организации, где бывших сотрудников не бывает, неравноценны по своему содержательному уровню. Смею заявить, что роман Альфреда Симонова – произведение серьёзное, высокохудожественное и отнюдь не «для служебного пользования». Более того, и это выгодно выделяет его из массы «детективов», он не содержит никакой криминальной окраски. Автор удержался от стрелялок и пугалок, но с подкупающей искренностью поделился мыслями своего героя: «Ему, настоящему профессионалу, было больно видеть, как на протяжении последних десятилетий разрушался тщательно и умело собранный механизм защиты государства, как честных и умных людей, элиту страны, выращенную одним из умнейших людей ушедшей эпохи – Андроповым, заменяют на хороших, но пока ещё беспомощных ребят, в подготовке которых было нарушено, пожалуй, самое главное звено – преемственность. И именно в этом главная причина того, что маленькая дочка боится реальных террористов, а не сказочного серого волка…»
Ну как тут не вспомнить А.П.Чехова: «Талант – это смелость, свободная голова, широкий замах»!
Смелость художника Альфред Симонов счастливо соединил с чистотой художественного слова, перед чем меркнут и рассыпаются в пыль любые надуманные красивости. Не лишне заметить, что автор великолепно сумел донести до нас эмоционально богатый, философски глубокий, психологически тонкий мир своего героя. Его полковник Зотов – живой, со всеми недостатками и достоинствами человек. И нет нужды наделять его ни сверхестественной силой, ни божественной красотой, от чего он больше потеряет, чем приобретёт. И вообще, со вкусом и чувством меры у Альфреда Николаевича, походе, полный порядок.
Эта книга – не для беглого прочтения. Она – документ, продукт и свидетельство эпохи, части отечественной истории, жизни поколения, которое строило, защищало, стало свидетелем разрушения своей страны, но не утратившего светлых надежд.
И уже за одно это она заслуживает внимания и читательской благодарности.
Евгений ГУСЕВ
МАРЧЕНКО Эмма Васильевна
ПОЭТОМ СТАЛА В ЯРОСЛАВЛЕ
 Писатель Эмма Марченко в особом представлении не нуждается. Среди любителей настоящей литературы, подлинной поэзии – а таких и нынче немало – Эмма Васильевна известна и почитаема. Популярность её велика, книжки с её автографами, а это мне доподлинно известно, стоят особняком в библиотеках, хранятся как бесценные реликвии у почитателей. Да что говорить – большой русский поэт!
Писатель Эмма Марченко в особом представлении не нуждается. Среди любителей настоящей литературы, подлинной поэзии – а таких и нынче немало – Эмма Васильевна известна и почитаема. Популярность её велика, книжки с её автографами, а это мне доподлинно известно, стоят особняком в библиотеках, хранятся как бесценные реликвии у почитателей. Да что говорить – большой русский поэт!
Родилась будущая ярославна 21 сентября 1932 года в городе Богучар Воронежской области. Во время Великой Отечественной войны семья эвакуируется в Крым, в Феодосию, где и прошло её детство и юность. В 1944 году на фронте погиб отец.
«Как себя помню, всё время тянуло к истории, к книгам. Нравилось их собирать, перечитывать, делать из них выписки, складывать стопочкой. Какая-то любовь была к любому печатному изданию» - вспоминает Эмма Васильевна. В общем, дело кончилось поступлением в Московский историко-архивный институт, который с отличием закончила в 1959 году. По распределению «краснодипломницу» направили работать в Ярославль, где она десять лет кряду и занималась любимым делом в областном архиве.
Но стихи уже вовсю стучались в сердце, просились наружу. Первая публикация как раз и относится к началу её производственной карьеры: в 1959 году «Северный рабочий» публикует пока ещё робкую поэтическую подборку. Затем как прорвало. Стихи ярославской поэтессы появляются в самых престижных советских литературных журналах «Москва», «Волга», «Юность», «Молодая гвардия».
Всё это не могло не привести к тому, что в 1969 году Эмма Васильевна заканчивает литературный институт им. Горького. В качестве литсотрудника шесть лет работает в многотиражной газете «Советский танкер» Волжского речного пароходства. На всевозможных судах исходила великую русскую реку от истоков до устья, до тонкостей изучила жизнь речников, специфику их работы, полюбила свою новую профессию. Стихотворные циклы и даже книги посвятила нелёгкому труду, овеянному романтикой.
Но от судьбы, как известно, не уйдёшь. Поэзия уже полностью овладела её душой, всё сильнее тянуло к «святому ремеслу». Её заметили, оценили. Один за другим в Москве и Ярославле стали выходить поэтические сборники: «Влюблённость» (1964), «Млечный путь» (1968), «Парусник» (1970), «Жар-птица» (1975), «Отплытие» (1979), «Счастливый плёс» (1985), «Пропуск в море» (1987). В 2003 году в ярославском издательстве «ЛИЯ» вышел её итоговый сборник стихов «И юг, и север». Наверняка есть и другие книги, но я сказал лишь о тех, которые имеются в моей домашней библиотеке.
В апреле 1972 года произошло неизбежное – поэт Эмма Марченко была принята в Союз писателей СССР.
Оглядываясь назад, с восхищением вспоминаю, какие, говоря нынешним языком, мастерклассы проводила Эмма Васильевна, руководя литературным клубом «Рифма» при редакции газеты «Юность»! Многие её ученики, ставшие именитыми поэтами, с теплотой в сердце говорят об этом на своих творческих вечерах, пишут в книгах. Талантливый поэт, она была, несомненно, и талантливым наставником.
Впрочем, почему была? Она есть! И будет! Не далее как два месяца назад вновь встретились на очередном писательском собрании. И вновь поразила всех своим оптимизмом, остротой ума, свежестью суждений, ясностью и новизной мысли. Вот уж действительно: «Талант единственная новость, / Которая всегда нова».
Говорить о собственно творчестве Эммы Марченко, делать разбор и анализ её стихотворений можно сколь угодно долго. Но я думаю, что всё это с успехом заменит и компенсирует сама её поэзия, то есть сами стихи. Все они продиктованы чутким сердцем, взволнованным чувством, полны тепла и света. Душеполезные стихи. Вот некоторые.
* * *
О, это невысокое окно,
В котором только ветра дуновенье, -
Мне кажется, твой стук хранит оно
И взгляда твоего прикосновенье.
Но говорит мне поздняя звезда,
Что утешаюсь тщетною мечтою.
Так безнадёжно комната пуста,
Как сердце переполнено тобою.
ИМЯ ДЕРЕВА
Непогода во владенья лета
Ворвалась, доспехами звеня.
Помню я, от ливня и от ветра
Защитило дерево меня.
С той поры одно меня печалит,
Лишь припомню к морю спуск крутой:
Не узнала я, как величают
Дерево с раскидистой листвой.
Словно я, напуганная ветром,
У камней, где плещется залив,
Повстречалась с добрым человеком,
Как зовут, спросить о том забыв.
* * *
С единственною улицей деревня
И хвойный лес, нетронутый, густой.
И речка, словно линия деленья,
Меж соснами и дедовской избой.
Прохладные, с глухим оконцем сени.
А в горнице, заждавшейся гостей, -
Герани ярко-огненной цветенье
И телевизор – вестник новостей.
Евгений ГУСЕВ
СОКОЛ Владимир Федорович
ВЫСОКИЙ ПОЛЁТ СОКОЛА
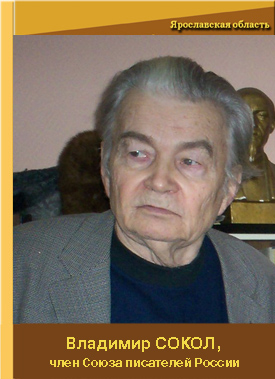 19 апреля 2014 года исполнилось 78 лет известному ярославскому поэту, члену Союза писателей России В.Ф.Соколу.
19 апреля 2014 года исполнилось 78 лет известному ярославскому поэту, члену Союза писателей России В.Ф.Соколу.
У больших поэтов, поэтов истинных всегда присутствует нечто, отличающее их от «собратьев по цеху». У них всегда своя манера письма, свой стиль, свой неповторимый и узнаваемый голос.
Случилось так, что знакомство с поэзией Владимира Фёдоровича в своё время очень сильно повлияло на всю мою творческую судьбу. Именно «лица не общим выраженьем» и поразил меня тогда этот яркий художник. Какими-то энергоёмкими, светоносными явились для меня его стихи и поэмы. И представлялся мне автор человеком этакой пугачёвско-разинской удали, есенинской широты и распахнутости.
По прошествии немалых лет я познакомился с этим красивым, с непокорной буйной шевелюрой и внимательным открытым взглядом интеллигентным человеком, голосовавшим за меня при приёме в члены Союза писателей.
Но то первое впечатление тридцатипятилетней давности живёт во мне и поныне, при каждой встрече с поэтом находя себе подтверждение.
Владимир Федорович Сокол (Соколов) родился в городе Истре Московской области. После десятилетки поступил в текстильный институт, откуда был направлен для завершения образования в Дрезденский технический университет. Белее шести лет провёл он в заграничных командировках, впечатления и размышления от которых легли в основу стихотворных циклов.
Но есть какая-то символичность, высший смысл, что первый свой стихотворный сборник поэт выпустил в Ярославле. Здесь же в 1968 году был принят в Союз писателей СССР.
Прочитав хоть одну книгу Владимира Сокола, - а сейчас он работает над очередным, одиннадцатым по счёту своим стихотворным сборником, - можно с уверенностью сказать: любовь к Родине, к её природе и людям, романтика дальних дорог, дружба и верность – вот истоки его творчества.
Всё во мне от тебя, Россия,
От лесов твоих и полей:
И глаза васильковой сини,
И воскрылья ржаных бровей…
А ступни обжигает пламя
Пробуждённой от сна земли,
Точно врос я в неё корнями,
Как деревья в неё вросли.
Печататься поэт Владимир Сокол начал в 1954 году. Его стихи публиковались в журналах «Юность», «Смена», «Звезда», «Аврора», «Молодая гвардия», «Волга», «Наш современник», «Советский воин», в газетах «Комсомольская правда», «Труд», «Красная звезда», «Советская Россия» и других популярных изданиях. Отдельные стихи поэта переведены на болгарский, украинский, грузинский, чувашский языки. Владимир Федорович – лауреат областной премии Ленинского комсомола, награждён почётной грамотой ЦК ВЛКСМ и Ярославского обкома комсомола, знаком «Отличник культурного шефства над вооружёнными силами СССР». Работал редактором литературно-художественных сборников писателей Верхневолжья, литературным консультантом при Ярославской писательской организации.
Я каждой клеткой связан с настоящим,
Но с каждым днём, перегорев на треть,
Я всматриваюсь в прошлое всё чаще,
Чтоб будущее лучше рассмотреть.
Творчество поэта Владимира Сокола получило доброжелательный отклик со стороны таких «хороших и разных» писателей, как Василий Фёдоров и Егор Исаев, Сергей Смирнов и Всеволод Сурганов, Ярослав Смеляков и Сергей Наровчатов, Лев Ошанин и Евгений Савинов, Владимир Костров и Николай Якушев.
Очевидно, от них, от своих великих собратьев, от земли своей русской, которую любит по-сыновьи горячо и преданно, получил он заряд могучей творческой энергии и секрет неувядаемой молодости. И сегодня, в свои семьдесят пять, он вправе сказать:
Весною, дыша новизною,
Не ведаю, сколько мне лет,
Как будто бы каждой весною
Я снова рождаюсь на свет.
С днём рождения, дорогой Владимир Федорович! Вдохновения Вам и всяческих удач!
Евгений ГУСЕВ
ГОЛИКОВ Валерий Павлович
НЕГРОМКАЯ МУЗА ПОЭТА
Ко всему творчеству поэта Валерия Голикова предложил бы в качестве эпиграфа всего одну строку из Н.Рубцова: «Тихая моя родина…». К этому подвигает само название поэтического сборника – «Всё, чем живу», тем более – разделы: «Родина детства», «Любовь души», «Который раз прощает нас Господь». Согласитесь, всё просто и ясно, без псевдолитературных выкрутасов и изысков.
Несомненно, любителей поэзии подкупает в творчестве поэта из Гаврилов-Яма то, что мысль в его стихах не замутнена декоративной метафористикой. Бесхитростно, честно, искренне – о любви, о природе, о Родине. Иногда – с болью, не чураясь публицистичности.
В книге немало стихов интересных, мыслей острых и неожиданных, сравнений оригинальных и своеобычных, тонких наблюдений. В то же время есть нечто такое, что вызывает сожаление у читателя, ощущение нехватки чего-то очень важного, пусть и необъяснимого. Будем надеяться, что это поиск авторского, своего стиля, своего письма. Но в каждом разделе книги есть то главное, что подкупает именно своей бесхитростностью, открытостью, то есть откровением.
Валерий Павлович прекрасно понимает, что такое литературная традиция, стихотворная техника. Близок ему и эксперимент. Строка его точна и зрима. Лирик Голиков отличается удивительной мягкостью, родственным отношением к предмету изображения. В нём сочетается казалось бы несочетаемое: детский наив с проницательным «третьим глазом». Есть в его открытых, внешне простых стихах некая потайная сила, которая заставляет дышать с автором в унисон, шагать в ногу.
Валерий Голиков научился обходиться без громких возгласов. Книга в творческом плане – добротная. Читаешь её и видишь, как с каждой страницей взгляд поэта становится всё строже и глубже. Его духовные переживания и бытовые наблюдения задают высокий тон, не обещая объяснений и готовых решений. Всё это выражено в слове сильным, раскованным образом.
В творчестве В.Голикова меня всегда привлекал не только его, лично ему присущий, язык, но интонация, весьма необычная. А интонация, как известно, - музыка души. Не менее этого всегда импонировала в голиковском творчестве ясность стиха. В этом он – верный последователь А.Сумарокова, призывавшего стихотворцев «мысль свою прочистить наперёд».
Валерий Голиков – лирик самый подлинный, не декларативный, что картинно грустит под берёзкой о «малой родине». Родина у него большая, до боли своя, вот только говорит он о ней негромко, даже как бы застенчиво. Так говорят о самом дорогом, любимом, близком. Такие стихи не сочиняются, их надо прожить, переболеть ими.
Стихи В.Голикова – исповедь души истинного русского человека, исповедь открытая и сокровенная. Именно подобное глубинно-корневое, «традиционное» в лучшем смысле этого слова творчество всегда существовало на Руси. Русскому народу всегда требовалась особая, предельно проникновенная поэзия, способная служить как бы путеводной звездой души. Как бы не толдычили не проспавшиеся горе-рыночники о коммерческой убыточности поэзии, Россия без стихов – это уже не Россия. И всё явственней негасимый свет русского слова. Подтверждением чему – эта книга.
Евгений ГУСЕВ
ГОНЧАРОВ Николай Валентинович
«И НЕТ СТЫДА ПРЕДСТАТЬ ПЕРЕД ВСЕВЫШНИМ…»
 В своё время А.Фет на книге «Стихи» Ф.Тютчева сделал такую надпись: Но муза, правду соблюдая, / Глядит – а на весах у ней / Вот эта книжка небольшая / Томов премногих тяжелей.
В своё время А.Фет на книге «Стихи» Ф.Тютчева сделал такую надпись: Но муза, правду соблюдая, / Глядит – а на весах у ней / Вот эта книжка небольшая / Томов премногих тяжелей.
На этом можно бы и закончить предисловие к поэтическому сборнику «Закон больших чисел» Николая Гончарова. Действительно, любой разбирающийся в литературе, отличающий поэзию от непоэзии, поймёт всё и без моих умозаключений.
Понимая, что этой фразой обрекаю себя и автора на весьма серьёзный разговор о художественных достоинствах сборника, тем не менее попытаюсь если не доказать читателю справедливость своих слов, то хотя бы поговорить о творчестве талантливого человека.
Будучи традиционалистом, Н.Гончаров не пытается поразить читателя дерзкими рифмами, противоречивыми образами или новоязом. Никакого псевдолитературного трюкачества. Да это и не входит в задачу автора. Ему глубоко чужды словесная эквилибристика и заумь. Чем он занят? «Руководимый Всевышним, / Путь постигаю земной». Вот чем. Кто так может сказать? Только поэт.
Вообще говоря, эта книжка – отчёт о жизненном пути, о своих настроениях, переживаниях, взлётах и падениях, близких людях и друзьях, с которыми судьба свела «вдали от проспектов арбатских и невских». С удивлением и радостью узнаю, что этот неторопливый, скромный до застенчивости интеллигент «с детства знал, как выставлять стропила, / Как топорище продолжает руку». Поэтому, наверное, и говорит уверенно: «Мне досталось хорошее время, / Может, лучшее из времён».
Метафорами стих Н.Гончарова не перегружен, сравнений притянутых за уши нет. А то, что есть – понятно, прозрачно, ясно и точно. Имеющий слух к живому поэтическому слову не пройдёт мимо таких образов, как «гардины облаков», «звёзды, словно сотни светлячков», «липы у Волги, как бестии рыжие», «осень вступила в свой возраст бальзаковский», «луна, скользящая ладьёй по небосводу» и так далее. И здесь нет осознанной погони за звукописью, а если и происходит вдруг, так это «не написал, случилось так» (А.Вознесенский). Поэт не спешит, не торопится, не суетится, поскольку знает о строке, что «она придёт неявственно, неброско…». Придёт обязательно.
У Николая Гончарова глубокое поэтическое дыхание, что подтверждается массой примеров, стихов, где строка едва ли не на всю страницу: Например: «Не гнетёт своей властью лояльный земной прокуратор…» - в стихотворении «О земном и небесном».
Кстати, наиболее часто встречающиеся слова в книге – Земля, Небо, Мирозданье, Солнце. Именно так – с заглавной буквы. «Смотрят Мирозданья чудеса / Нам из глубины непредставимой». Или: «Я научился слушать тишину, / Улавливая звуки Мирозданья». Или: «Извечен вопрос: кто мы в этой Вселенной?». Или: «Высшая гармония пространства / Движет Мироздания штурвал». Или: «В каждой просветлённой строчке осмысленье Мирозданья…». Или: «Небо коптим под одною звездою, / Но в параллельных мирах пребываем». Философия? Она в стихах есть, но мистики нет.
Только из приведённых выше строк видно, что у автора книги особый поэтический темперамент. К тому же он не прочь порой поиронизировать, скаламбурить. Не обходится и без самоиронии. А это, на мой взгляд, дано не каждому, но делает честь любому уважающему себя художнику. Настоящему художнику.
Вообще говоря, на сегодняшнем литературном поле, на котором буйно разросся бурьян рассудочной поэзии с вызывающе торчащими кочками постмодернизма, творчество Н.Гончарова воспринимается как зелёная трава, пробившаяся сквозь асфальт. «Осенний ветер навевает строфы, / Подсказывает рифмы дождь-соавтор». Хорошо, когда в соавторах дождь, ветер, лист осенний или подорожник («Сколько ран прикрыто и залечено / Этою травою придорожною!»), а не кто-то из собратьев по перу. Писатели, художники, музыканты, – творцы! - которых Гончаров взял в учителя, - вот они, в его стихах: Пушкин, Лермонтов, Евтушенко, Айвазовский, Джек Лондон. А вот Николо Амати с Антонио Страдивари гуляют «тропинками оливкового сада». Вот – Мастер, вот – Маргарита. Видишь всех, словно живых. «Италия», «Венеция», «На Везувии», - названия стихов, «Беатриче», «Микельанджело», «Из Гельвеция» - стихотворные циклы.
Есть стихи-посвящения, написанные к случаю или дате. Честно говоря, всегда с некоторым предубеждением относился к подобного рода сочинениям, поскольку в большинстве своём попадались некие рифмованные конструкции, ничего общего с поэзией не имеющие. Толк в этом «деле» знаю, поскольку немало времени посвятил «датским стихам», «паровозикам», задержавшись на творческой дорожке и чуть вовсе не утратив голос. Вот и здесь с некоторой опаской открыл раздел, где чёрным по белому написано: «Одноклассникам», «А.Макаревичу», отцу, матери, деду с бабкой. Каково же было удивление, когда не обнаружил ни одной проходной фразы, строки, ни одного пустого слова. Стихи, поэзия! Произведения! Я так не мог, получалось хоть и в рифму, но как-то казённо, с деланным пафосом, без души. Гончарову и здесь – дано.
Он ещё и смелый человек, Николай Гончаров. Но смелость у него не безрассудная, не смелость новичка-стихописца. Здесь – дарование в купе с опытом и мастерством. Это и позволило ему поместить в книгу стихи-баллады – «Ярослав», «Князь-град», «Рыбинское море», поэмы «Теория распада», «Мятеж», «Предел бесконечности». Но сколь ответственное это предприятие! Ведь не привнеси в произведения что-то своё, не скажи что-то новое, - на смех поднимут, закритикуют, в перепеве уличат, а то и в плагиате. В общем, без мужества здесь не обойтись. И позволить себе это может только человек сильный, знающий себе цену.
Конечно, такие стихи пишут, может быть, и для себя, но они нуждаются в читателе. Будущее всё поставит на свои места. Непоэзия исчезнет, а истинное творчество, как драгоценный металл, станет ещё дороже, ещё крепче, как доброе вино.
Николай Гончаров – художник удивительно светлый, гармоничный. Интонация доверия к жизни и полного её приятия несмотря ни на что – вот, на мой взгляд, основная черта его поэтики. Его стихи – это поэзия вдумчивого реагирования на всё, что окружает, на внутренние переживания. Это стихи-осмысление, стихи-преодоление. Даже там, где появляется ностальгическая интонация, всё равно жизнеутверждающий мотив побеждает.
Поэт не боится в который раз обращаться к традиционным темам, потому что знает: они никогда не устареют. Главное – свой, свежий эмоциональный взгляд:
Живу в непростом столетии,
Живу в непростой стране
На этом чудесном свете,
Принадлежащем мне.
Точны и тонки у Гончарова стихотворения о природе. Здесь проявляются все достоинства его стиля: чуткость, лиричность, искренность. Все времена года представлены в поэтическом оформлении, и всё – ново, оригинально, ярко, всё запоминается сразу и надолго. Поймал себя на том, что хожу и повторяю про себя: «Пугают нас глобальным потепленьем, / А за окошком вновь похолодание». Браво!
Гончаров пишет просто, лаконично. Он и повторов не боится, потому что его мысль, тесно связанная с чувством, не прячется в строках, а витает над ними, под их аккомпанемент. Это поэзия сострадания, обращённая не на себя, а идущая, зовущая в мир. Поэтому она и должна быть проста, внятна и лаконична, без всяких изысков. К чему ей витиеватые рифмы и сложные метафоры. Для поэта, на мой взгляд, гораздо важнее смысл сказанного, а не форма, в которую облечено стихотворение.
В книге собраны стихи, неравнозначные по художественному достоинству. Но так или иначе, все они проникнуты страстной и убедительной энергией неравнодушного человека. Здесь я впервые познакомился с поэтом-сатириком Гончаровым. «Человек породы бультерьер», «Есть ли другая такая страна…», «Не кляните недавних вождей…» и другие – беспощадная картина современного житья-бытья. В цикле этой социальной лирики есть такие строки: «Давайте уважать свою страну, / Другой страны у нас уже не будет».
Золотые слова, современные и своевременные! Наверное, поэтому Николаю Гончарову «И ангел тихо шепчет: «Не молчи! / Ты на планете вовсе не случайно».
Да, писать такие стихи – огромная ответственность. М.Кульчицкий в этом плане был строг: «Я б запретил декретом Совнаркома / Писать о Родине бездарные стихи». Но автор этой книги может, и поэтому должен писать стихи о Родине. Да, ответственно. Но такую ответственность надо заслужить. Никто не будет слушать того, кому нечего сказать.
Вот Н.Гончаров и говорит:
Быть может, сквозь пространства и года
Нам светит из таинственного мрака
Шекспира негасимая звезда
И светлая туманность Пастернака.
Откровенно говоря, прочитав эти строки, испытал чувство, равное потрясению. Думаю, наш автор вслед за Пушкиным здесь мог воскликнуть: «Ай, да Гончаров! Ай, да…».
Впрочем, не меньшее впечатление произвела и эта его строчка, которую вынес в заголовок. Думаю, её единственной было бы достаточно для понимания, что Николай Гончаров – не случайный человек в литературе.
Евгений ГУСЕВ
СЕРОВ Владимир Александрович
ЕГО «СТИХОВ ЗЛАЧЁНЫЕ РОГОЖИ»
То, чем поэт отличается от непоэта, наиболее точно, мне кажется, определил А.Вознесенский: «Стихи не пишутся – случаются…». У сочинителя, у составителя строк, у конструктора словесных композиций можно встретить совершенно блестящие вещи, от которых глаза слепит, но не трогает душу. И видишь, что всё красиво, ярко, а хочется поскорей отвернуться с чувством неловкости и стыда. Корявинки какой-то хочется, глуповатости, что ли. В общем – поэзии…
Владимир Серов – поэт… Собственно, на этом можно бы и закончить. Можно, если бы он, Серов, был, как говорится, на слуху, на виду, мало-мальски раскручен и имел тысячные тиражи своих книжек. Ничего этого нет. Но поэт – есть. И его поэзия «существует , и ни в зуб ногой!»
Надо сказать, что «Даль моих полей» - не первая книга В.Серова. но первые два стихотворных сборника, по словам самого автора, были робкими попытками проверить себя в литературном пространстве. Но уже тогда смело можно было сказать, что это – настоящая поэзия.
В эту книгу автор хоть и включил ранее публиковавшиеся стихи, но рядом с новыми они и читаются совершенно по-новому, ничуть не отягощая сборник.
Вообще говоря, при первом же соприкосновении со стихами Серова испытываешь какое-то душевный подъём, буквально нечаянную радость. Почти всем его стихам присуща высокая образность, эмоциональность и музыкальность, они исполнены широкого лирического дыхания и тёплой задушевности интонации.
А.Блок видел назначение поэта в извлечении им звуков из хаоса и приведение их в гармонию. Обладающий литературным слухом и чувством поэтического слова, В.Серов миссию свою, «поручение от Бога» выполняет успешно. Его ни с кем не спутаешь, он сумел создать свой собственный язык, свой мир. Буквально в каждом его стихе вовсю клокочет юношеская непосредственность и всеоткрытость. Искренний порыв, подлинность и незаёмность чувств – это, пожалуй, фирменный знак всего серовского творчества.
Сейчас над художественным словом, над литературой вообще стоит практическая, коммерческая суета. И в этом море тиражируемой бездарности , псевдо- и антилитературы радостно встретить родничок чистый и незамутнённый. И как-то менее пугающим становится девятый вал чернухи, засилие пустоты и дилетантизма на книжных полках.
В.Серов – человек скромный и непритязательный. Вот и в стихах он ни в малой степени не выпячивает себя, не навязывается в друзья и единомышленники, с участием и теплотой приглашая в заповедные уголки души своей.
Пора раздумий. Значит, срок
Искать родник в бору сосновом
И удивляться в мире новом:
Смотри – пчела! Смотри – цветок.
Наверное, В.Серов вправе подписаться под поэтической оговоркой Пушкина: «И неподкупный голос мой Был эхо русского народа». Метафоричность его стихов приближается к есенинско-рубцовскому уровню: «Проморожено небо до звёзд, Светит донышком лунная плошка…», «Машет осень растрёпанным веером…», «Пуста дорога. Скользкой кожей Покрыл ухабы гололёд», «Повисший месяц над трубой Копчу, как жирного циплёнка…». Поэту жаль людей, которые не верят, что можно ходить по воде, «аки по суху»:
Я шёл, ступая по волнам,
В виду скопившегося люда,
Но по обоим берегам
Никто не верил в это чудо.
Немного найдётся у нас поэтов, у которых было бы столько пронзительных стихов о «братьях наших меньших»:
Из угрюмой темницы колодца,
Как на старой, но доброй ладье,
Хмуря глазки от яркого солнца,
Лягушонок плыл к небу в бадье.
Здесь же и горячие, полные предельных эмоций стихи на гражданские темы, и пронизанные лиризмом, нежные и доверительно-исповедальные стихи о любви:
Что нам мир… Куда важнее –
Я с тобой, да ты со мной.
Проживём! Вдвоём теплее
В этой жизни ледяной.
А вот о природе:
Что ни дерево – невеста
В бриллиантах изо льда.
Покатилась в чащу леса
Золотым рублём звезда.
Может возникнуть вопрос: чем же волнуют и покоряют стихи В.Серова? Да прежде всего художественной и жизненной правдой, самобытностью и неповторимостью, полифоничностью звучания, красотой и мелодичностью, яркостью и новизной слова.
«К поэзии чутьё утратил гордый век…», - с горечью восклицал Я.Полонский. Не современно ли звучит?! Так не от самих ли поэтов зависит процесс обратный?..
Думаю, что эта небольшая – размером в человеческую жизнь! – книга Владимира Серова способна серьёзно повлиять на возрождение искусства и культуры, духовности, изменить отношение к великому русскому языку, к слову, к поэзии.
Евгений ГУСЕВ
ЛЕБЕДЕВ Владимир Александрович
НЕГАСИМЫЙ ОГОНЬ ДУШИ
Восемьдесят семь лет, что ни говорите, возраст солидный. Редко, кто отважится махнуть рукой: мои года – моё богатство. Разве что в шутку, отгораживаясь от назойливых поздравлений и нелепых вопросов.
Вот и В.А.Лебедев, один из старейших ярославских писателей, которому 5 августа 2016 года исполнилось восемьдесят семь, не теряет присутствия духа. Впрочем, в унынии я его никогда не видел: всегда бодр, энергичен, живо интересуется всем, что происходит «в мире и его окрестностях», особенно в писательском сообществе. Заинтересованно реагирует на каждое сообщение, не оставляя без внимания ни малейшей детали, вдаваясь во все подробности. При этом никого не ругает, не ставит оценок, не вешает ярлыки.
Замечал за собой не раз: поговорю с учителем, и на душе становится легче, в голове проясняется, проблема уходит сама собой. Но делается неловко: перед писателем – за отвлечение, перед собой – за недомыслие. Утешение одно - очередной урок пошёл впрок.
Говоря, что Владимир Александрович бодр и энергичен, я не покривил душой. Именно таким он мне видится до сих пор и при встречах, и во время телефонных разговоров. Передвигаясь с помощью «ходунков», он неизменно подшучивает над собой, иронизирует, не забывая при этом задавать неожиданные и главные вопросы. И всегда читает стихи – свои или кого-то из классиков. Иногда «случайно» находит в своём архиве рукописи молодых сочинителей тридцатилетней давности, с гордостью говоря: «Я тогда ещё сказал, это – поэт!»
Оптимизм профессионального литератора с полувековым стажем поражает. Он и свою «ссылку» в Марьинский пансионат под Туношной воспринимает с юмором, за которым едва проглядывает лёгкая печаль и грусть. Впрочем, это мне, может, только кажется.
Мужественный и честный человек, поэт Владимир Лебедев и в творчестве остаётся верен своим убеждениям и принципам. Вряд ли кто сравнится с ним по смелости и открытости в написании так называемых социальных стихов. Его гражданская лирика, бьющая наотмашь сатира, далеко не всем по вкусу. Не нравятся нынешнему режиму его острые публицистические стихи и очерки, не по нутру правда в глаза. Поэтому не он, а «верные и проверенные, лояльные и послушные» получают премии, звания и медали. Правда, не нуждается в этих «почестях» русский писатель, писатель-патриот. Машет рукой: «Быть знаменитым некрасиво…».
Так-то оно так, но подмывает спросить – дано ли нам право забывать, проходить мимо, отворачиваться от человека, прославившего ярославскую словесность, вошедшего при жизни в разряд классиков отечественной литературы? Воздано ли по заслугам тому, кто стоял у истоков образования писательской организации, имеющему за плечами громадный творческий опыт, автору множества замечательных книг, воспитавшему, поставившему на крыло не один десяток молодых поэтов и прозаиков?
Конечно, эти вопросы не только к властям предержащим, но и ко всем нам, собратьям по перу. И в первую очередь – к себе. Ответ, к сожалению, неутешительный.
Помнится, своё семидесятипятилетие В.А.Лебедев отметил выпуском книги «Зори и зарева» в ярославском издательстве «ЛИЯ», куда вошли стихи, очерки, переводы, сатира и юмор. Достойная книга большого писателя! Но она – последняя, которую удалось издать. Не озаботился тогдашний руководитель ярославского СП, не дал себе труд помочь ветерану писательской организации к очередному юбилею выпустить хотя бы брошюрку, порадовать старшего товарища драгоценным подарком. Не преодолел сатирик-юморист в себе негативного отношения к писателю с иным, патриотическим взглядом на жизнь и творчество. Утешает одно: не он, а «неолауреаченный» В.А.Лебедев останется в литературе навсегда, что Лебедев при жизни заслужил право называться писателем с большой буквы.
Не мной подмечено, что произведения мастеров, настоящая литература, с первого же знакомства с ней оставляет глубокий след в памяти, в душе, порой сильно влияя и даже изменяя судьбу. Именно такое отношение у меня с давних пор к творчеству Владимира Александровича. Не перестаю удивляться его способности подмечать, казалось бы, малозначительные явления, события, и делать из этого высокохудожественные произведения. По сей день восхищаюсь его неуёмной творческой энергией, отточенным литературным слогом, острым сатирическим словом, великолепным «фирменным» юмором, верностью традициям классической русской литературы.
Хочется сказать несколько слов о книге «Зори и зарева».
В первой части – стихи, баллады, поэтические этюды, притчи. А эпиграфом к этому разделу, как, впрочем, и ко всей книге, я бы предложил слова самого автора из стихотворения «Моя судьба»:
Гадает осторожность взаперти,
Крикливость на словах готова к бою…
Я рад, что им со мной не по пути, -
Ведь обречён я быть самим собою!
«Станционный буфет» - так именуется раздел сатиры и юмора, где грань между этими понятиями частенько едва ощутима, а слова классика: «Всё это было бы смешно, / когда бы не было так грустно» - точное ему определение. Из стихотворения «Праздники»:
За нашей жизнью бурною спеша,
Раскроем новым праздникам ворота:
Позвольте вас поздравить с «Днём бомжа»!
С «Днём наркомана»! С «Праздником банкрота»!
О следующем разделе очень верно сказано в предисловии к книге: «Бережно относясь к литературному наследию отечественных классиков, писатель в своих поэтических переводах пропагандирует лучшие образцы зарубежных мастеров слова».
По себе знаю, сколь нелёгок это крест – быть «соперником автора». Но Владимир Александрович делает это просто блестяще, великолепно передавая настроение, колорит, музыку стиха того или иного народа, нации, страны. Переводы с украинского, польского, английского, французского – всё одинаково интересно, смело, ярко, талантливо.
Необычайно волнующий, на мой взгляд, раздел книги, куда входят поэмы «Трубы нашей юности», «Бескорыстие» и «Человек слушал Русь».
Убеждён, никого не оставит равнодушным заключительная часть книги «Их жизнь – поэзия». Это литературные очерки о жизни и творчестве выдающихся наших земляков-ярославцев, великих русских писателей И.З.Сурикова, Л.Н.Трефолева, А.А.Суркова, Л.И.Ошанина, М.С.Лисянского. С последними тремя Владимира Александровича связывало тесное творческое сотрудничество и крепкая мужская дружба.
Заканчивая разговор об авторе и его книге, вновь обращусь к словам из предисловия: «В творчестве писателя просматривается характер его времени – суровый, непреклонный и героический. Владимир Лебедев никому не навязывает своих взглядов и мнений. И сам свободен от чужеродных влияний. Он просто пишет так, как диктует ему собственная совесть и многолетний жизненный опыт».
Доброго здоровья и оптимизма, русский писатель!
Евгений ГУСЕВ
ХАЛИЛОВ Мамед Гаджихалилович
РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ДАГЕСТАНЦА
В конце 2011 года в ярославском издательстве «ИНДИГО» под редакцией члена Союза писателей России Валерия Мутина вышла в свет книга поэзии и прозы «Письмена на базальте» литератора Мамеда Халилова, проживающего в посёлке Пречистое.
С возрастающим интересом и удовлетворением наблюдаю за творчеством этого одарённого и душевно распахнутого человека.
Его поэзия привлекает меня традиционной формой стихосложения, понятной образностью, новизной и смелостью взгляда, уважительным отношением к слову, к отечественной литературе. Его стихи и прозу отличают искренность, подлинность и незаёмность чувств, соединение высокого и сокровенного с земным и обыденным. Пронзительный лиризм в его произведениях гармонично уживается с декларативными строгостями, и этот сплав даёт интересную картину реального.
Что в том тебе, что ты другого хуже –
Ты в жизни за собой не жги мосты.
Ты просто знай, что ты кому-то нужен.
Другой не нужен. Нужен только ты.
Мамед Халилов - человек, тонко чувствующий слово, имеющий несомненный поэтический слух. Эти качества позволяют ему свободно работать в любом жанре, форме и виде творчества. Его рассказы «О моих земляках», «Разговор по душам», «Шихамир», «Коза-егоза», и особенно «Молитвы моего деда Муси» и «Письма к сыну» - это поэзия, это торжество русского классического художественного слова.
Не чужд Мамед и тонкого, едва уловимого юмора, а порой и беспощадной сатиры. И всё это – не навязчиво и легко, откровенно, честно и смело.
Почти во всех его произведениях присутствует восточный колорит, своеобразие места, где он родился, его родины – Дагестана. Он этого не скрывает и не стесняется, поскольку, по его собственному признанию, оставаясь катрухцем по национальности, думает, говорит и пишет на русском языке.
Кроме того, Мамед Халилов обладает редким сегодня качеством – бескомпромиссной требовательностью к себе, к творческой работе, к качеству своих произведений. Он не играет в литературу, а служит ей, отчётливо видя своё будущее в писательском труде.
Импонирует ещё и то, что Мамед Халилович, обладая энциклопедическими познаниями в области литературы, истории, искусства, человек скромный и сомневающийся, находящийся всё время в поиске, в работе, в учёбе. Простота и чёткость изложения у него гармонично соседствует с глубиной мысли и смелостью её подачи. Вот, например, фраза из «Предисловия»: «Многого не знали древние, но они были мудрее нас, ибо их головы не были забиты, как у нас, массой ненужных и неважных мелочей». Или: «Я точно знаю, что крест у каждого в душе. Просто иные взваливают его себе на спину, а иные – нет». А вот и стихотворное: «Лишь в руках у мастера алмаз / Обретает истинную цену». Подобных откровений в книге достаточно много, причём, как в стихах, так и в прозе.
Только поэту дано услышать, как «Жалуясь, в траве журчит родник…», или как пианистка «В инструмент уткнулась руками стопалыми». Такие образы человеку с приземлённой душой не увидеть, здесь нужна особая – сердечная зоркость. И россыпи таких самоцветов – на каждой странице небольшой по объёму, но содержательнейшей книги.
В коротком представлении об этом самородке «из глубинки» многого не скажешь. Да, наверное, и не нужно – произведения говорят сами за себя. Хотелось бы лишь заметить, что великолепные рассказы, очерки, зарисовки основаны на подлинном, реальном материале, окрашенные глубоким чувством, любовью к родине, к её людям, к её истории, к её обрядам, к укладу, к быту и обычаям гордого и красивого народа.
Публикации в газетах, журналах, альманахах, и особенно его книга «Письмена на базальте», убедили окончательно, что Мамед Халилов – талантливый, состоявшийся литератор, обещающий стать заметным явлением писательской жизни.
Насколько мне известно, у него есть немало смелых и даже дерзких планов по организации творческих вечеров, литературных семинаров, выпуску поэтических антологий. Что ж, помощь и поддержка писательского сообщества ему обеспечена.
Одно из своих стихотворений Мамед Халилович заканчивает так:
Запишет ли арбитр небесный
В графу отчёта о грехах,
Что честно мир земной, чудесный
Я воспевал в своих стихах.
Беру на себя смелость сказать: запишет! Не может не записать, поскольку «воспевал в своих стихах» талантливый и добросердечный человек, человек-поэт Мамед Халилов самое дорогое на земле, единственную ценность в подлунном мире – любовь.
Доброго прочтения книги.
Евгений ГУСЕВ
Предлагаем нашим читателям несколько произведений Мамеда Халилова из книги «Письмена на базальте».
* * *
На плечи лип и сосен шаль
Зима накинула небрежно.
Ты на ветру – безмерно жаль! –
Стоишь, поёживаясь нежно.
Умчалось всё куда-то в даль,
Но нестареющая память
Откинет времени вуаль
И всё больнее сердце ранит.
Родная, одного мне жаль:
Взамен тому, что с нами было,
Останется лишь эта шаль,
Что сосны с липами укрыла…
* * *
Годы, что остались позади,
Ничего для нас уже не значат.
Надо, не страшась, вперёд идти
С верою в грядущую удачу
Нашего нелёгкого пути…
* * *
Окутаны серою мглою
Громады недвижных камней,
И властвует ночь над землёю,
Но нет тебе отдыха в ней.
Прохлада с рассветом проходит,
Клубится в ущельях туман,
Луна из-за тучи восходит, -
Тревожен твой сон, Дагестан.
РАЗЛУКА
…А память рисует, рисует тебя,
Рождает химеры.
И плачет душа, безответно любя,
Без цели, без веры.
Ведь всю я тебя, как себя, наизусть
Запомнил всем телом.
Поймёшь ли, простишь ли мне светлую грусть,
Пропавшая в сером?
* * *
Ничто в этом мире не ново.
Не вечен порхающий снег.
Лишь в муках рождённое Слово
Останется с нами навек.
Всё названо именем, словом.
- Где те, кто давал имена?
Ведь были под неба покровом
Шумер и Аккад племена…
Где тени, где знаки былого?
…И стёрты народы во прах,
Осталось от них только Слово,
Но Слово, живое в веках.
КОГДА УМРУ…
Кем стану я? – В пустыне саксаулом,
Берёзкой белой на крутом юру,
Сольюсь с горой, что над моим аулом?..
Одно я знаю: весь я не умру.
Одно я твёрдо знаю: смерти нет.
Есть в этом мире только Тьма и Свет.